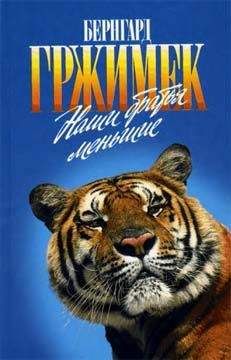Бернгард Келлерман - Братья Шелленберг
Голос у Качинского дрожал.
На этот раз побледнела Женни.
– Успокойся! – попыталась она укротить его, трепеща от его замаскированных оскорблений. – Я не давала тебе повода считать меня легкомысленной женщиной. До чего нелепо твое волнение! Я поеду с ним в оперу, чтобы не быть невежливой, вот и все.
– Значит, поедешь?
– Да, поеду.
Дверь с треском захлопнулась.
Женни заплакала. Она бросилась на узкую оттоманку своей скромной комнаты. Но потом встала, вытерла глаза, освежила щеки одеколоном.
– Пусть уходит! – сказала она себе, закуривая папиросу. – Да, пусть уходит! Довольно, довольно, довольно! Ах, как хорошо, что это кончилось! – Теперь только она почувствовала приступ гнева. Топнула о пол ногою. – Он полон самомнения, он смешон! Да и кто он, в сущности, такой? Всякого мужчину, имеющего успех, бранят другие мужчины. Пора мне, давно пора порвать эту связь! – Но я понравилась, – продолжала она другим тоном, тоном ликования, расхаживая взад и вперед по истертому ковру, покачиваясь на бедрах и приплясывая. – Мой ангажемент – дело решенное, Я проложу себе дорогу. А Шелленберг… – Радость залила ее. – Сейчас напишу папе.
Женни Флориан была родом из Любека. Там знал ее всякий. Маленькой девочкой она декламировала стихи и подносила букеты цветов, когда высокие гости приезжали в ее родной город. Двенадцати лет она играла одну из главных ролей в торжественном шествии. Четырнадцати – получила приз на состязаниях в плавании. Кто же не знал Женни Флориан? Каждый день, между пятью и шестью часами вечера, она гуляла, как и все, по Широкой улице. Шестнадцати лет Женни Флориан занялась живописью и лепкой. В одном книжном магазине устроена была небольшая выставка ее работ, и в газетах появились о ней похвальные отзывы. Семнадцати лет Женни стала выступать в маленьких ролях в городском театре и пожинала лавры. Так можно ли было не знать Женни Флориан? Ей пророчили большую будущность. В родном городке она считалась самым выдающимся талантом, и нельзя было сомневаться, что ей предстояло когда-нибудь прославиться в искусстве, стать, может быть, знаменитой художницей, может быть, актрисой, а, может быть, и знаменитой певицей, ибо известно было, что Женни обладала дивным голосом. Стоило ей только показаться на улице, как все оборачивались в ее сторону.
Ясно было, что городок Любек – неподходящее место для развития больших дарований Женни. Ее отец, чиновник, гордясь своей талантливой дочкой, послал ее сначала в Гамбургское художественное училище. Но потом она переехала в Берлин, чтобы серьезно посвятить себя сцене.
В Гамбурге, в художественном училище, познакомился с ней Качинский, и в Берлине они, разумеется, встретились опять. Качинский за это время достиг каких-то мелких успехов. Некоторые его карикатуры появились в юмористических журналах. По поводу одной– выставки о нем хорошо отозвалась критика. Женни смотрела на него с уважением, Качинский водил ее по музеям, театрам, рассказывал ей интересные вещи про разных актеров, анекдоты, сплетни. Повел ее в артистическое кафе и показал некоторых знаменитостей. Представлял ей молодых художников, архитекторов, писателей, ввел ее в разные ателье. Он был для нее бесценным ментором. Больше того: он любил ее.
Но теперь Женни переживала большую внутреннюю борьбу. Уже несколько месяцев назад приняла она решение, но все колебалась. С недели на неделю откладывала решительный шаг. Она хотела расстаться с Качинским… С каждым днем она все больше от него удалялась, но он этого, казалось, не замечал. Ее критическая мысль скоро стала зрелее. Она поняла, что слишком высоко ценила достоинства своего друга. Сразу увидела его недостатки и слабости. В ту пору, когда ей казалось, будто она любит его, – ибо в действительности она никогда его не любила и сознавала это теперь, – в ту пору она говорила ему: «Ты красив, как Аполлон». Теперь же она говорила ему: «У тебя слишком мягкие губы, у тебя губы девушки». Ей нравились его шелковистые белокурые волосы. Теперь же она находила, что эти волосы слишком мягки, шелковисты для мужчины. Еще несколько месяцев назад она всем расхваливала добродетели Качинского, говорила, что нет менее своекорыстного, чем он, человека. Теперь же она знала, что Качинский не что иное, как эгоист, способный думать только о самом себе и больше ни о ком. Не раз ей приходилось убеждаться в том, что он лжет. А для нее не было ничего ненавистнее лжи. Она была стеснена в средствах, он уверял, будто у него нет денег, а между тем ходил по кафе, позволял себе разные удовольствия. Отец посылал ей все деньги, какие только мог сберечь. Их было мало, но и этим малым она делилась с Качинским, когда его дела бывали плохи. И она не могла простить ему того, что однажды он занял у нее денег, чтобы, как он говорил, помочь больному приятелю, и заставил ее несколько дней питаться только чаем и хлебом, а сам, как она потом узнала, истратил эти деньги на маскарад. Узнала она об этом совсем случайно. И так же случайно узнала, что Качинский завязал интрижку с одной продавщицей и берет у этой девушки деньги. Все яснее становилось ей, что его словам нельзя доверять. О, мало того, ей стало ясно, что он лгал почти постоянно. Иногда он водил ее также к приятелям, где шла игра, но она решила впредь избегать такого общества. «Что-то подозрительны мне его новые знакомства и устремления», – думала она.
Как-то совсем незаметно потускнел ореол, в котором она раньше видела боготворимого ею некогда человека.
Обо всем этом думала она, в то время как писала своему дорогому старому папочке, сообщая ему радостную весть о трехлетнем контракте, заключенном ею с одною из первых кинофирм. Контракт можно считать уже подписанным. Об условиях она напишет завтра. Но между тем как она писала, подробно описывая сегодняшний прием в правлении фирмы, но не упоминая имени Шелленберга, – между тем как она писала, ее мучил конфликт, в котором она находилась. «Я порву с Качинским, – говорила она себе, – о, давно мне следовало это сделать. Но что же он подумает? Он станет повсюду рассказывать, что я…»
Но это было еще не все, нет, не все. Одно это не терзало бы ее так; что-то другое к этому присоединялось, что-то гораздо более страшнее: она чувствовала, что не относится равнодушно к этому Венцелю Шелленбергу. Да, в этом нельзя было сомневаться, она это чувствовала слишком ясно. Часто ей казалось, будто дыхание у нее обрывается, кружилась голова. А порою бывало такое ощущение, сложно ей острым ножом поцарапали грудь и по груди стекает капля крови. Нельзя было предаваться самообману: ее влекло к этому большому, широкоплечему человеку с немного грубым лицом и этой улыбкой… Какая у него улыбка? Презрительная? Высокомерная? Ее влекло к нему, больше того – она любила его, она это знала, и то, что она его любила, – вот что было ужасно. Не деньги его любила она, не сокровища, конюшни и автомобили. Не нужны ей были его деньги. Ни одного пфеннига не взяла бы она у него. И какое дело было ей до его лошадей и автомобилей? Он покровительствовал ей. Разве он не в праве был покровительствовать ей? Конечно, контракт с обществом «Одиссей» никогда не был бы заключен без его посредничества. Он хотел оказать ей услугу. Разве она могла запретить ему это? А Качинский всегда думал только о себе и даже теперь почувствовал ревность, и ничего, кроме ревности, оттого что ей повезло.
Но ужаснее всего было то, что не только сердце ее было взволновано, но и чувства. Что же будет? Что произойдет? Ведь он это сразу заметит, с первого же взгляда. «Посоветуйте, что мне делать!»
«Мой милый, дорогой, старый моржик, – писала Женни (моржик – было ласкательное имя, которое Женни дала отцу; лысина, круглые глаза и висячие усы действительно придавали ему некоторое сходство с моржом), – мой дорогой, старый моржик! Завтра я опять напишу тебе. Здесь происходят важные события. Чувствую, что буду счастлива!»
Так она писала, и слова сами собой стекали с пера, а в то же время ее раздирала мука. Ничего, пусть написанное останется!
Она запечатала письмо и пошла опустить его в ящик. Потом медленно брела по улицам, чтобы поразмыслить, сосредоточиться, охладить пылавшее лицо. Прикладывала кончики пальцев к вискам и повторяла все одни и те же слова: «Что будет? Он это сейчас же заметит! Я не поеду с ним в оперу. Я напишу ему извинительное письмо». Она остановилась и спросила себя: «Когда? Послезавтра? Значит, впереди еще сорок восемь часов без двух – сорок шесть». Придя домой, она начертила па листке почтовой бумаги сорок шесть квадратов, и, когда проходил час, она зачеркивала один квадрат.
Читала книгу, но едва лишь склонялась над нею – время останавливалось, часы замирали. Ходила по комнате взад и вперед.
Доброе? Нет, лицо у него не доброе, но что-то доброе в нем есть. И есть в нем также что-то страшное. Голос его часто становится громким. Всегда он расходует силу, даже когда говорит. Если бы можно было гадать по звездам?… Она подошла к окну и взглянула поверх темных крыш. Беззвездное небо, пустота. Но что это? Что. поднимается так между трубами? Она испугалась. Что это? Свет! Сияние поднималось вверх, поглощало мрачные трубы, ширилось, как светлые ворота. Это была луна!
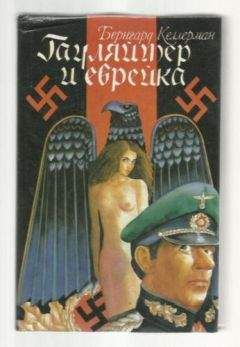

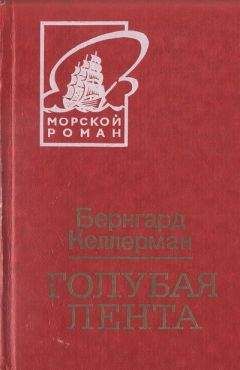
![Вальтер Шелленберг - Мемуары [Лабиринт]](/uploads/posts/books/239359/239359.jpg)