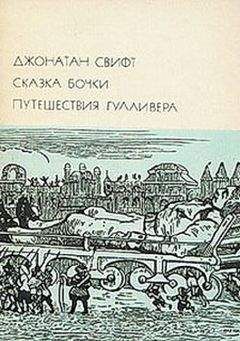Михаил Салтыков-Щедрин - Мелочи жизни
Изредка она уводила его на рынок или в лавку: пускай, по крайности, хоть на людей посмотрит, каковы таковы живые люди бывают!
Однако ж главное все-таки было в порядке, и черезовская удача продолжала не изменять. Семен Александрыч регистраторствовал с таким тактом, что начальник говорил про него: "В первый раз вижу человека, который попал на свое место, – именно таков должен быть истинный регистратор!"
Частная служба хотя не представляла прежней устойчивости, особливо у Надежды Владимировны, но все-таки не приносила особенных ущербов. Колесо было пущено, составилась репутация, – стало быть, и с этой стороны бояться было нечего. Но бояться чего-нибудь все-таки было надобно. Боялись, что вдруг придет болезнь и поставит кого-нибудь из них в невозможность работать…
– Что тогда мы будем делать! – мучилась Надежда Владимировна.
– Да, на казенной-то службе еще потерпят, – вторил ей Семен Александрыч, – а вот частные занятия… Признаюсь, и у меня мурашки по коже при этой мысли ползают! Однако что же ты, наконец! все слава богу, а тебе с чего-то вздумалось!
По временам его самого начинали уже обременять назойливые страхи, которые преследовали Надежду Владимировну. Он настолько обтерпелся, что ему было почти удобно. Каторга не изнурила его, а, напротив, казалось, укрепила и закалила. К петербургской атмосферической сутолоке, с ее сыростью, изменчивостью и непогодами, он привык и чувствовал себя вполне здоровым; жена и сын тоже никогда не бывали больны. Зачем же придумывать напрасные угрозы в будущем? Авдотья рассуждает в этом случае правильнее: день прошел, и слава богу! в их положении иначе не может и быть.
"А что, если и в самом деле… – внезапно мелькало у него в голове. – Что тогда?"
Он усиленно зарывался в работу, чтоб заглушить эти мысли, чтобы не терзали они его.
Оказалось, однако ж, что Надежда Владимировна была права: черезовская удача совсем неожиданно изменила. Все шло своим порядком, тихо, безмятежно и вдруг порвалось. И именно порвала болезнь.
Однажды, глубокой осенью, Черезов возвращался вечером из своего правления. Идти было довольно далеко, а на улице точно светопреставление царствовало. Дождь лил как из ведра, тротуары были полны водой, ветер выл как бешеный и вместе с потоками дождя проникал за воротник пальто. Впрочем, Черезову не в первый раз приходилось видеть картины петербургского безвременья; он прибавил шагу и шел. Но, пришедши домой, почти мгновенно почувствовал легкий озноб: оказалось, что он промочил ноги. Жена раздела его, напоила наскоро чаем, укутала и уложила в постель. Предчувствие грозы уже томило ее, но на этот раз она не высказалась. К двум часам ночи он был весь в огне и разбудил жену. Хотели бежать за доктором, но было так поздно и непогода так разыгралась, что он посовестился. Ограничились тем, что опять напоили его чаем и еще плотнее укутали.
– Теперича его в пот вгонит, – утешала Авдотья, – а к утру потом болезнь и выгонит. Посидит денька два дома, а потом и, опять молодцом на службу пойдет!
Но пота не появлялось; напротив, тело становилось все горячее и горячее, губы запеклись, язык высох и бормотал какие-то несвязные слова. Всю остальную ночь Надежда Владимировна просидела у его постели, смачивая ему губы и язык водою с уксусом. По временам он выбивался из-под одеяла и пылающею рукою искал ее руку. Мало-помалу невнятное бормотанье превратилось в настоящий бред. Посреди этого бреда появлялись минуты какого-то вымученного просветления. Очевидно, в его голове носились терзающие воспоминания.
– Что я делал? Зачем жил? – стонал он и затем, обращаясь к жене, повторял: – Что мы делали? зачем жили?
Утром, часу в девятом, как только на дворе побелело, Надежда Владимировна побежала за доктором; но последний был еще в постели и выслал сказать, что приедет в одиннадцать часов.
Когда она воротилась домой, больной как будто утих, но все-таки не спал, а только находился в лихорадочном полузабытьи. Почуяв ее присутствие, он широко открыл глаза и, словно сквозь сон, сказал:
– Что мы делали? зачем жили?
Затем он опять начал метаться, повторяя:
– Ах, какие все пустяки! пустяки! пустяки! пустяки!
Она стояла возле него, неподвижная, бледная, замученная, и вслед за ним так же, словно сквозь сон, твердила:
– Ах, какие все пустяки! пустяки! пустяки! пустяки!
Даже Авдотья, стоя поодаль и утирая слезы концом головного платка, всхлипывала:
– Надорвался!.. сердечный!
Сын (ему было уже шесть лет) забился в угол в кабинете и молчал, как придавленный, точно впервые понял, что перед ним происходит нечто не фантастическое, а вполне реальное. Он сосредоточенно смотрел в одну точку: на раскрытую дверь спальни – и ждал.
В одиннадцать часов приехал доктор, осмотрел больного и осторожно заявил, что Черезов безнадежен.
– До вечера, может быть, доживет, – сказал он, – но в ночь… Впрочем, я вечерком забегу.
– Что такое мы делали? Зачем, зачем мы жили? – стонал между тем больной.
К вечеру, едва смерклось, как началась агония. Сравнительно он умирал покойно и уже в полном сознании сказал жене:
– Надя! Тебе будет трудно… Не справиться… И сама ты, да еще сын на руках. Ах, зачем, зачем была дана эта жизнь? Надя! Ведь мы на каторге были, и называли это жизнью, и даже не понимали, из чего мы бьемся, что делаем; ничего мы не понимали!
В шесть часов вечера его не стало. Черезовская удача до такой степени изменила, что он не воспользовался даже льготным сроком, который на казенной службе дается заболевшим чиновникам. Надежда Владимировна совсем растерялась. Ей не приходило в голову, что нужно обрядить умершего, послать за гробовщиком, положить покойника на стол и пригласить псаломщика. Все это сделала за нее Авдотья.
Через два дня его схоронили у Митрофания на счет небольшого пособия, присланного из департамента. Похороны состоялись без помпы, хотя департамент командировал депутата для присутствования. Депутат доехал на извозчике до Измайловского проспекта, там юркнул в первую кондитерскую и исчез. За гробом дошли до кладбища только Надежда Владимировна и Авдотья.
Но тут черезовская удача опять воротилась. Надежде Владимировне назначили пенсию в триста рублей, хотя муж ее никакого пенсионного срока не выслужил, а в таком размере и подавно.
Она и теперь продолжает работать с утра до вечера. Теряя одну работу, подыскивает другую, так что «каторга» остается в прежней силе.
4. ЧУДИНОВ
Нет, вздумал странствовать один из них, лететь…
Он сам определенно не сознает, что привело его из глубины провинции в Петербург. Учиться и, для того чтобы достигнуть этого, отыскать работу, которая давала бы средства хоть для самого скудного существования, – вот единственная мысль, которая смутно бродит в его голове.
Николай Чудинов – очень бедный юноша. Отец его служит главным бухгалтером казначейства в отдаленном уездном городке. По-тамошнему, это место недурное, и семья могла содержать себя без нужды, как вдруг сыну пришла в голову какая-то "гнилая фантазия". Ему было двадцать лет, а он уже возмечтал! Учиться! разве мало он учился! Слава богу, кончил гимназию – и будет.
Действительно, Николай уже прошел гимназический курс и готовился поступить в университет, когда Андрей Тимофеич вызвал его к себе, находя, что учиться довольно. Юноша приехал; его сейчас же зачислили в штат полицейского управления и назначили двенадцать рублей месячного жалованья; при готовых хлебах и даровой квартире этого было достаточно. Предстояло на трудовой заработок только одеться, обуться да кой-какие мелочи исправить. Посидит на этом окладе, а скоро, глядишь, и прибавят рубля три. И таким-то образом не всякому удается начинать. А затем и в уезде – дорога широкая. И в становые пристава, и в непременные члены, а может быть, и в исправники – всюду пройти можно, – был бы царь в голове. А не то так и в мировые учреждения, в земство. У Андрея Тимофеича есть связи в уезде. Всем до казначейства есть дело, а он – душа казначейства. Стало быть, того, другого попросит, состоится единогласное избрание – вот и мировой судья готов. Шутка сказать! ведь это две тысячи рублей одного содержания, а с канцелярией да с камерой – и не сочтешь, сколько тут денег наберется!
Но юноша, вскоре после приезда, уже начал скучать, и так как он был единственный сын, то отец и мать, натурально, встревожились. Ни на что он не жаловался, но на службе старанья не проявил, жил особняком и не искал знакомств. "Не ко двору он в родном городе, не любит своих родителей!" – тужили старики. Пытали они рисовать перед ним соблазнительные перспективы – и всё задаром.
– Ежели не по нутру тебе полицейская служба – можно в земство махнуть! – говорил отец, – попрошу Ивана Петровича да Семена Николаевича – кому другому, а мне не откажут. Сначала в секретари управы, благо нынешний секретарь в лес глядит, а там куплю на твое имя двести десятин болота, и в члены попадешь. Здесь, мой друг, всё в наших руках. Захотим, так и в судьи попадем, нет нужды, что ты университета не кончил. Того же Ивана Петровича попрошу – он как раз единогласное избрание оборудует. Вот ты и на виду, и в люди показаться не стыдно. Стоит только годика два до новых выборов подождать.