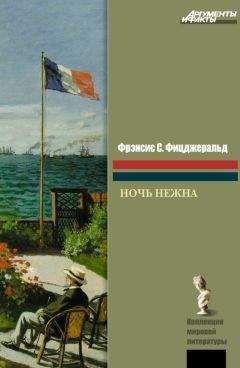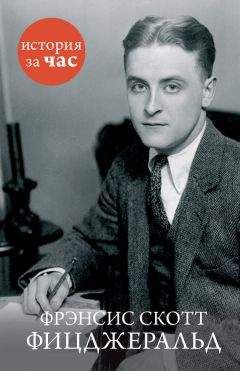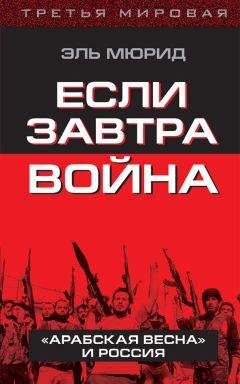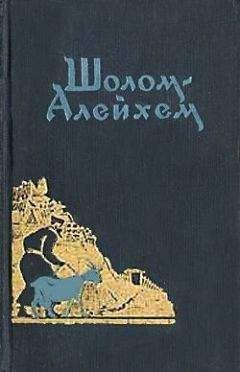Фрэнсис Фицджеральд - Ночь нежна
Дорога, следуя всем изгибам берега, привела их наконец в плодородную долину, где зеленые выпасы чередовались с пригорками, на которых лепились деревянные шале. Солнце плыло по синему океану неба, и Дик вдруг почувствовал истинно швейцарскую прелесть этого уголка — такой веселый гомон несся со всех сторон, так славно пахло здоровьем и бодростью.
Заведение профессора Домлера состояло из трех старых зданий и двух новых, раскинувшихся между озером и цепью невысоких холмов. Основанное десять лет назад, оно стало первой психиатрической клиникой современного типа. Никто со стороны не догадался бы, что здесь находится убежище для надломленных, неполноценных, несущих в себе угрозу этому миру, два из пяти зданий обнесены были глухой стеной, вид которой смягчала завеса винограда.
Какие— то люди сгребали в кучи солому на самом солнцепеке; по аллеям парка гуляли больные в сопровождении сиделок, которые, заслышав шум машины, предостерегающе взмахивали белым флажком.
Франц привел Дика в свой кабинет и попросил позволения отлучиться на полчаса. Оставшись один, Дик расхаживал по кабинету, стараясь составить себе суждение о Франце по беспорядку на его письменном столе, по его книгам, по книгам его отца и деда — ими написанным или им принадлежавшим, — по увеличенному отцовскому дагерротипу, с швейцарской чинностью висевшему на стене. В кабинете было накурено; Дик распахнул балконную дверь, и конус солнечного света прорезал дымный воздух. Мысли Дика обратились к той девушке, к американке.
За восемь месяцев он получил от нее около пятидесяти писем. Первое содержало попытку что-то объяснить или оправдать: еще в Америке она слышала, что многие девушки пишут письма незнакомым солдатам, — вот она и узнала у доктора Грегори его имя и адрес и надеется, он не будет против, если она время от времени станет посылать ему несколько слов привета и т.д. и т.п.
Тон письма нетрудно было узнать — он был заимствован из «Длинноногого папочки» и «Притворщицы Молли», сентиментально-развлекательных сочинений, которыми в ту пору зачитывалась Америка. Но дальше этого сходство не шло.
Письма распадались на две группы: те, что были написаны в период до перемирия, носили отчетливо патологический характер, остальные же, вплоть до самых недавних, были письмами вполне нормального человека, постепенно раскрывавшегося во всем богатстве своей натуры. За последние месяцы Дик привык с нетерпением ожидать этих писем, скрашивавших томительную скуку Бар-сюр-Об, — впрочем, и в письмах более ранних он сумел прочесть гораздо больше, чем это было доступно Францу.
«Mon capitaine![31] Вы мне показались таким красивым в военной форме. А потом я решила je m’en fiche[32] и по-французски и по-немецки. Я решила, что и я вам понравилась, но к этому я привыкла, и хватит. Если вы сюда еще раз приедете со всякими пошлостями и подлостями, которые вовсе не к лицу джентльмену, как меня учили понимать это слово, вам же будет хуже.
Впрочем, вы как будто поскромнее других, такой уютный, точно большой пушистый кот. Мне вообще нравятся женственные молодые люди. А вы женственный? Я таких встречала, не помню когда и где.
Не сердитесь на меня, это мое третье письмо к вам, я его сейчас отправлю или не отправлю совсем. Я часто раздумываю о лунном свете, и у меня нашлось бы немало свидетелей, если б только меня выпустили отсюда.
Они говорят, вы тоже доктор, но вы ведь кот, так что это другое дело.
Голова очень болит, так вы не сердитесь, почему я гуляю тут запросто с белым котом, это вам все объяснит. Я говорю на трех языках, не считая английского, и, наверно, могла бы работать переводчицей, если б вы меня устроили там, во Франции, наверно, я бы справилась, если б меня привязали ремнями, как в ту среду. А сегодня суббота, и вы далеко, может быть, уже и убиты.
Приезжайте ко мне опять, я ведь тут навсегда, на этом зеленом холме.
Разве только отец поможет, милый мой папа, но они мне не позволяют писать ему.
Не сердитесь, я сегодня сама не своя. Напишу, когда буду чувствовать себя лучше.
Привет. Николь Уоррен.
Не сердитесь на меня».
«Капитан Дайвер!
Я знаю, когда такое нервное состояние, как у меня сейчас, нехорошо сосредоточиваться на себе, но мне хочется, чтобы вы все про меня знали.
Когда это началось в Чикаго прошлый год, а может быть, и не прошлый, не помню, я тогда перестала выходить на улицу и разговаривать с прислугой, и мне так нужно было, чтобы кто-нибудь мне объяснил, что со мной. Кто понимал, тот обязан был мне объяснить. Слепого берут за руку и ведут, раз он сам идти не может. Но мне говорили и недоговаривали, а у меня уже слишком все спуталось в голове, чтобы я могла додумать сама. Нашелся один человек — он был француз, офицер, и он понимал. Он мне дал розу и сказал, что она „plus petite et moins entendue“[33]. Мы подружились. А потом он ее отнял. Мне становилось все хуже, а объяснить было некому. Есть такая песенка про Жанну д’Арк, вот мне ее пели, а мне было обидно, и я плакала, потому что у меня тогда голова еще была в порядке. Советовали, чтобы я занималась спортом, но я не хотела спорта. Потом раз я вышла из дому и пошла по бульвару Мичиган — далеко-далеко. За мной поехали и догнали, но я не захотела садиться в машину. В конце концов меня втащили силой и после этого приставили ко мне сиделку. Потом уже я постепенно стала понимать, потому что видела, как это у других. Вот, теперь вы все знаете. Здесь я никогда не поправлюсь, врачи без конца пристают ко мне с расспросами и не дают успокоиться и забыть.
Поэтому я сегодня написала отцу, пусть приедет и заберет меня отсюда. Я очень рада, что вам так нравится ваша работа, наверно, это очень интересно, проверять людей и решать, кто годится, а кто нет».
А вот из другого письма.
«Могли бы пропустить одну проверку и написать мне письмо. Мне недавно прислали граммофонные пластинки, на случай если я забуду свой урок, а я их все перебила, и за это теперь сиделка со мной не разговаривает. Пластинки были английские, и она все равно ничего не понимала. В Чикаго один доктор назвал меня симулянткой, это он хотел сказать, что я шестой близнец, а он еще никогда таких не встречал. Но я в то время очень сильно чудила, и мне было все равно — когда я начинаю так сильно чудить, мне все равно, назови меня хоть миллионным близнецом.
Вы в тот вечер говорили, что научите меня не скучать. Знаете, мне иногда кажется, что любовь — самое главное в жизни, должна быть самым главным. Но я рада за вас, что экзамены не оставляют вам свободного времени. Toute a vous[34]
Николь Уоррен».
Были и другие письма, в сбивчивом ритме которых слышалась более тревожная мелодия.
«Милый капитан Дайвер!
Пишу вам потому, что мне не к кому больше обратиться, и если даже я, такая больная, вижу нелепость своего положения, вам-то уж наверняка это ясно. Я вся совершенно разбита и уничтожена, не знаю, этого ли тут добивались. Родные ко мне равнодушны, нечего и ждать от них помощи и сочувствия. Я больше не могу, я уверена, оставаясь здесь, я только попусту буду терять время и вконец расстрою свое здоровье, а голова у меня все равно не придет в порядок.
Заперли меня в это заведение, которое что-то вроде сумасшедшего дома, и все только потому, что никто не решился сказать мне правду. Если бы я с самого начала все знала, как знаю теперь, я бы справилась, хватило бы сил, но те, кто должен был открыть мне глаза, не захотели. А теперь, когда я уже узнала, и такой дорогой ценой, они все поджали хвосты и хотят, чтобы я думала как раньше. Особенно старается один, но теперь уже я все равно знаю.
Мне очень тоскливо вдали от друзей и родных, которые все за океаном, я целыми днями брожу как потерянная. Сделайте доброе дело, устройте меня переводчицей (я в совершенстве знаю французский и немецкий, довольно хорошо итальянский и немного испанский), или в санитарный отряд, или медицинской сестрой — я бы могла пройти какие-нибудь курсы.
И еще:
Если вы не согласны с моими объяснениями, что со мной, могли бы, по крайней мере, объяснить по-своему, мне это важно, потому что у вас лицо доброго кота, а не такая дурацкая физиономия, какую здесь принято строить.
Доктор Грегори дал мне вашу фотографию, вы на ней не такой красивый, как в военной форме, но зато моложе».
«Mon capitaine!
Очень приятно было получить вашу открытку. Я рада за вас, что вам так нравится проваливать медицинских сестер на экзаменах, — не беспокойтесь, я очень хорошо поняла все, что вы пишете. Только мне-то, когда я вас увидела, показалось, что вы должны быть не такой, как все».
«Милый капитан Дайвер!
Сегодня я думаю по-одному, а завтра по-другому. В этом вся моя беда, и еще в том, что мне хочется делать всем назло, и я никогда не знаю меры. Я бы охотно посоветовалась с каким-нибудь специалистом по вашей рекомендации. Здесь все лежат в ваннах и поют: „Играй, дитя, в своем саду“, но у меня нет своего сада, где я могла бы играть, и ничего хорошего я не вижу, куда ни посмотри. Вчера они опять взялись за свое, опять в кондитерской, и я чуть не ударила продавца гирей, только меня удержали.