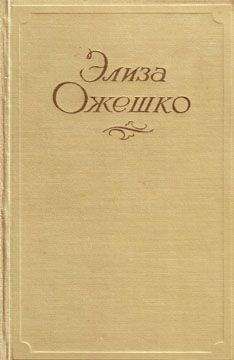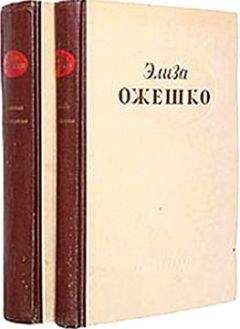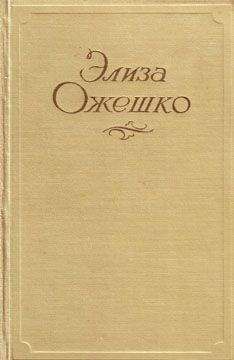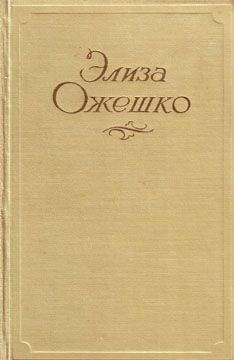Элиза Ожешко - Хам
Вдруг за углом раздалось хриплое, громкое бормотанье, сопровождаемое вздохами и стуком палки о землю.
— Кирие элейсон![1] Слава Христу! Отец небесный, будь милостив к нам, грешным! Искупитель, помилуй нас!
Франка стремительно подняла голову и увидела выглядывавшее из-за угла избы широкое, изрытое морщинами лицо, на меловой белизне которого краснели опухшие, беспрерывно моргающие веки.
— Марцелька! — радостно вскрикнула Франка.
— А Павла дому нету? — тихо пробасила нищенка, все еще высовывая из-за стены только голову, повязанную грязной тряпкой.
— Нет, нет! На три дня уехал! — поспешно успокоила ее Франка и, спустив с колен мальчика, побежала навстречу гостье.
— Ох ты, моя дорогуша, золото мое! — затараторила она, смеясь и оживленно жестикулируя. — Как же я тебя ждала, всех про тебя спрашивала… Говорят мне: «Нету Марцели! Как ушла в город перед страстной, так с той поры о ней ни слуху ни духу». Уж мы думали, не померла ли ты где-нибудь…
Куча лохмотьев, из которой высовывались большие ноги в онучах, трясущаяся голова и бесформенные руки, державшие клюку, медленно двинулась к дому. Франка повела ее в хату и усадила, не переставая болтать и сыпать радостными восклицаниями. Она подбежала к шкафчику и достала оттуда хлеб, поставила на стол миску холодного картофеля и соль.
— Ешь, миленькая, ешь! Ой, как же я рада, что ты пришла! Тут слова сказать не с кем!
Нищая не сразу принялась за еду — видно, сыта была. Она хитро и пытливо следила из-за красных век за всеми движениями Франки.
— Эге, да ты, я вижу, тут опять полной хозяйкой, как прежде! — удивилась она.
— А как же! — с гордостью отозвалась Франка, — Что было, то все забыто… как будто ничего не случилось!
— Ну, расскажи, ради бога, расскажи, где была, что делала, как сюда вернулась и как вы с Павлом помирились? — просила Марцеля.
Франка не заставила себя упрашивать. Села и стала рассказывать все по порядку, а когда говорила о том, как Павел все ей простил и принял ее ребенка за своего, у нее дрожали губы и слезы блестели в глазах, Марцеля тоже стала серьезна и как-то нахохлилась, отчего ее квадратная фигура казалась еще более неуклюжей.
— Вот хороший человек! — сказала она тихо и восторженно.
— Хороший! — согласилась Франка. — Добрее его на свете нет!
Она вдруг задумалась, неподвижно глядя в одну точку. Вздохнула.
— Хотя… Знаешь, Марцелька… Он теперь уже не такой добрый, как был…
— Да что ты! — воскликнула Марцеля.
— Верно тебе говорю. Раньше, бывало, я что хочу, то и делаю. Сплю, пока спится… Сделаю что по хозяйству — хорошо, а не сделаю — никогда он ни словом меня не корил. Еще и конфет привозил, и на руки брал, как малого ребенка. Под конец, когда я уже его разлюбила, я ссорилась с ним, кричала… а он все терпел! Молчит, бывало, как стена, а то обнимет и просит: «Ну, перестань, дитятко, полно, успокойся!» А теперь — где там! Чуть свет — уж он, мучитель мой, стоит над постелью и велит мне подниматься. Как ни прошу, как ни противлюсь, — не помогает! Я — свое, а он — свое: вставай да вставай! Иной раз и за руки с постели стащит, а потом велит на колени стать и молитвы за ним вслух твердить. И по книжке молится… а как он читает? Ой, боже милостивый, — пока одну молитву прочитает, у меня от стояния на коленях голова начинает кружиться. Известное дело, мужик, как он может читать хорошо? А после молитвы начнет понукать: огонь разведи, корову подои… то огород копать пошлет, то хлеб печь заставит. Даже когда из дому уходит, и то наказывает: «Смотри, Франка, все сделай, что надо». А если чего не сделаю, так он, когда вернется, начинает меня отчитывать или ругается, Я все теперь делаю, хотя мне перед самой собой стыдно, что в такую черную работу впряглась… да и сил нет, иной раз кажется — свалюсь от слабости… Но уж лучше работать до упаду, чем слушать, как он толкует про бога, про черта, вечные муки… и всякие другие глупости…
Да, я теперь, как раба, телом и душой ему продалась. Здоровье потеряла, а на шее у меня ребенок — так куда же я денусь? Другого спасения нет, как только жить здесь с ним. Такая уж мне доля выпала… В недобрый час я на свет родилась!..
Так жаловалась Франка. Безнадежная тоска смотрела из ее глаз, и прежде печальных. Вдруг из них хлынули слезы — но так же внезапно перестали течь. Она схватилась за голову и застонала:
— Ой, Марцелька, если бы ты знала, как меня голова замучила: болит и болит! Когда я сюда приехала, она несколько недель совсем не болела, а теперь — опять болит, и в ушах шумит… Не так сильно, как раньше, а все-таки шумит…
Она сняла цветастый, ситцевый платок и, намочив в ведре полотняную тряпку, обвязала ею голову.
— Вот единственное мое спасение: когда боль уже невмоготу, — холодной водой смочить.
Она села на прежнее место, против Марцели, а та, сложив руки, так внимательно следила за ней и так глубоко задумалась, что ей даже изменила на время обычная болтливость. Только через некоторое время она медленно заговорила:
— Скажите на милость! Такой он, значит, суровый стал? Ай-ай-ай! А все же, милая моя, счастье твое, великое счастье, что на такого человека напала! Где это видано — столько жене прощать, и чужое дитя кормить, да еще к работе тебя приглашать, как пани какую к столу? Такая доброта не шутка!
— Знаю! — бросила Франка, обеими руками сжимая лоб. — За эту доброту я и пошла к нему в неволю!
Марцеля, качая головой, уставилась в пол. На ее старое некрасивое лицо легла тень мрачного раздумья. И после долгой паузы она заговорила хрипло и заунывно, словно обращаясь к земле, на которую был устремлен ее взгляд:
— Ой, доля моя, доля! Зачем же ты и мне в молодые годы не послала такого спасителя? Зачем оставила одну на свете, как былинку в поле? Уж я бы знала, как такого человека почитать, и не пришлось бы мне маяться с детьми-сиротами, не пришлось бы на старости лет нужду и обиду терпеть!
Качалась голова, обмотанная грязной тряпкой, а из груди рвался не то плач, не то причитание. И, наконец, полилась дрожащая, хриплая, трогающая сердце песня:
Повей, повей, ветер, из зеленого гая,
Воротись, наш паночек, из дальнего края.
— Ага! — резким, высоким голосом крикнула Франка. — Хорошо тебе так говорить, Марцелька, когда ты уже старая, как гриб замшелый! А в молодые годы человеку веселья хочется, и удовольствий разных, и свет повидать!
Марцеля отвела от пола налитые мутной влагой глаза и в упор посмотрела на Франку:
— А сколько тебе лет, милуша моя?
— В сретенье тридцать восьмой пошел, — с явной гордостью ответила Франка.
Марцеля потрясла головой.
— Эге, уже и ты не молоденькая, недалеко тебе до сорока. А сорок лет — бабий век!
— Неправда! Поговорку эту хамы выдумали. Ой-ой, как бы за мной еще хлопцы бегали, если бы я здорова была и не сидела в такой яме!
Привлек ли взгляд Марцели поблескивавший в углу самовар или висевший на стене мешочек с мукой, но, желая загладить свои слова, она торопливо принялась подпевать Франке:
— А как же! Неужели не бегали бы! Ты такая стройная и тоненькая, как те барышни, что в корсетах ходят, а ручки, как у ребенка, маленькие… И глаза…
Со двора Козлюков донеслись голоса. Франка, став коленями на лавку под окном, прижалась лицом к стеклу. Она увидела Ульяну, загонявшую корову в хлев, четверку ребятишек, бегавших по двору, Филиппа и Данилку с косами. Филипп входил в дом, а Данилко у ворот разговаривал с каким-то парнем такого же возраста.
— Смотри-ка, Марцелька, — зашептала Франка. — Смотри, как Данилко выровнялся… какой стал красивый парень!..
Восемнадцатилетний Данилко и в самом деле был хорош. В коротком холщовом кафтане и высоких сапогах, с косой на плече, поблескивавшей в последних лучах солнца, он стоял у ворот, стройный, веселый. Лицо у него было нежное, как у девушки, волосы — рыжевато-золотистые.
Дряблые, в складках, щеки Марцели затряслись от беззвучного лукавого смеха.
— Э, мальчонка еще! — сказала она. — Молоденький, вот и гладкий.
— Ничего, что молодой! Статный какой и складный — как панич! Смотрите-ка, а я до этих пор и не примечала, что он такой красавчик!
По лицу Марцели все шире расплывалась ехидная усмешка. Понизив голос, она заискивающе спросила:
— Хочешь, перескажу ему, что ты про него говорила? Вот обрадуется-то! О, господи Иисусе, пресвятая богородица, ну и потеха! Ему небось и на ум не приходило, что кто-нибудь его красавцем назовет!
— Скажи ему, золотая моя, брильянтовая, непременно скажи! Вот любопытно мне, обрадуется ли он и что про меня скажет?
В эту минуту Ульяна вышла из хлева, и дети, как птенцы, слетелись к ней. С веселой улыбкой что-то говоря им, она зачерпнула из подойника молока в кружку и, наклонясь, стала поить по очереди всех четверых, поднося кружку к вытянутым вперед детским ротикам: тут было трое ее ребят, а четвертый был Октавиан. Она напоила молоком и его — правда, после всех, и, может быть, ему дала поменьше, чем своим, но все-таки дала. Затем все четверо побежали за нею в дом.