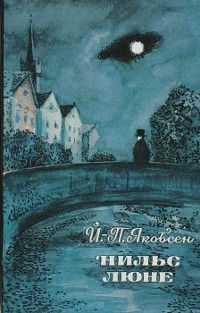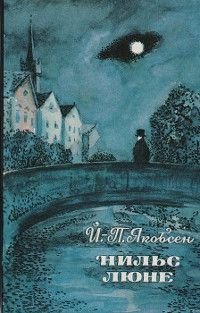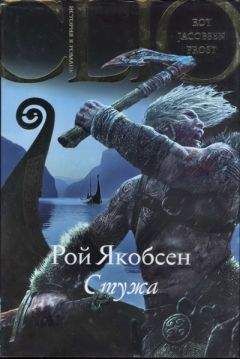Йенс Якобсен - Нильс Люне
В такие дни он сторонился матери и, с чувством, будто делает что–то стыдное, жался к отцу и охотно выслушивал его земные соображения и трезвые расчеты. И ему бывало до того отрадно с отцом, он тянулся к обществу себе равного, почти позабывая, что это тот самый отец, на которого он, сострадая, взирал с высот своих воздушных замков. Разумеется, детскому уму все это представлялось не с той ясностью и отчетливостью, какие обретает мысль, облеченная в слово, — но странно, предрожденно, неуловимо; так сквозь мутный лед видны причудливые подводные травы; разбей лед, вырви темное, живое на ясную поверхность слов, и выйдет одно — то, что ты увидишь, нащупаешь, во всей своей очевидности, уже не то темное, прежнее.
И мелькали годы, и рождественский воздух вновь и вновь гудел праздником еще долго после Крещения, и вновь и вновь шелестела листвою Троица и ступала на пестрый луг, и вновь и вновь пировало лето, кружа голову духом свободы, солнечным блеском и щедрым летним хмелем, чтобы в один прекрасный день вдруг погаснуть вместе с закатом, оставив по себе на память обгорелые щеки, ошалелый взгляд и взбаламученную кровь.
3
И мелькали годы, и мир был уже не тот мир чудес, что прежде; в сумрачных зарослях трухлявой бузины, на таинственных чердаках, у знакомого надгробья при дороге уже не водились сказочные чудища; и угор над рекой, с первой трелью жаворонка прятавший траву под красной россыпью петушков и желтыми брызгами купальниц; и сама река, полная несчетных трав и зверья; и страшный обрыв, черневший каменистыми ребрами и серебристо отливавший осколками гранита, — все эти сокровища стали просто цветами, просто животными, просто камнями. Золотые наряды фей осыпались, как желтая листва с деревьев.
Одна за другой старели и надоедали игры, делались скучны и глупы, как картинки в букваре, а уж как нравились, будто никогда не наскучат… Давно ли Нильс и пасторов Фритьоф катали бочоночный обруч, и был этот обруч — корабль и, когда падал, терпел крушение, но, если вовремя его подхватить, он бросал якорь. Проулочек за службами, где еле пройдешь, назывался Баб–эль–Мандеб, или Мертвые Ворота, на двери денника мелом значилось, что это Англия, а на сарае выведено — Франция. Садовая калитка вела в Рио–де–Жанейро, но Бразилия помещалась в кузне. Еще играли в Хольгера—Датчанина, можно было играть в зарослях конского щавеля за сараем, но подальше, за мельницей, были оползни, и там окапывался сам принц Бурман и его дикие сарацины в серо–красных чалмах, с желтыми султанами на шлемах — чертополох и царские свечки невиданной величины. Там уж была настоящая Мавритания; ибо беспредельная щедрость природы, пышность, изобилие и бьющая через край жизненная сила будили жажду уничтожать, подстрекали к разрушению, и сталью сверкали здесь деревянные мечи, и зеленый сок стекал по клинкам алой кровью, и срубленные стебли трещали под ногами, будто турецкие кости под копытами коней.
Играли и у фьорда; ракушки пускали по морю в дальний путь, они запутывались в водорослях, или их вымывало на берег — и тут–то выступал на сцену Колумб, он открывал Америку либо пересекал Саргассово море. Строили пристани, возводили плотины; вырыли Нил в твердом прибрежном песке; а раз даже возвели из гальки замок Гурре; внутри лежала дохлая рыбешка в устричной раковине — это была мертвая Тове, а рядом сидели они сами — это король Вольдемар скорбел по своей возлюбленной.
И вот все кончилось.
Нильс вырос, ему исполнилось двенадцать, пошел тринадцатый год; ему уже не приходило на ум рубить чертополох для уголенья рыцарских фантазий, уже не хотелось снаряжать ракушечный флот для великих открытий; забиться с книжкой в уголок дивана — вот и все, что нужно ему было теперь, а если книжка не уносила к милому берегу, он шел к Фритьофу и рассказывал ему повести, каких в книге недоставало. Рука об руку брели они по дороге, один говорил, оба слушали, но для полного счастья, совершенного наслаждения рассказом они забирались в пахучую тьму сеновала. Скоро, однако же, все истории, кончавшиеся, как только с ними сживешься, слились в одну долгую повесть, где не было конца и лишь сменялись поколение за поколением, ибо, как только герой старился либо нечаянно погибал, на смену ему являлся сын, который наследовал все качества отца, а вдобавок обретал и новые, оказывавшиеся как нельзя более кстати.
Все запомнившееся Нильсу из того, что он увидел, что понял и чего не понял, все, что вызвало его восторг или, как знал он, должно бы вызвать, все входило в эту повесть.
Как скользящая вода, подхватив всякую близкую к берегам картину, то бережно и четко кладет ее на ясное зеркало, то смутно и неверно обводит дрожащим контуром, то перекашивает ее и искажает, а то и вовсе поглощает игрою линий и красками глубин, так подхватывала эта повесть мысли и чувства, его и чужие, людей и со- бытья, жизнь и книжки — все, что ей попадалось на пути. Особенная, своя жизнь строилась бок о бок с настоящей; тайное прибежище сладкой мечты об отчаяннейших странствиях; волшебный сад, расступавшийся по его манию и открывавший ему свои чудеса, не давая больше никому доступа, — сверху он был надежно укрыт шепчущимися кронами, а внизу, меж сверкающих цветов, меж звездчатых листов, куда только не бежали петляющие тайные тропы, во все земли, во все века — и к Аладдину и к Робинзону Крузо, к Волундеру, Генрику Мейнару, Петеру Симплю, к Одиссею, — зато, когда вздумается, можно было тотчас вернуться домой.
Спустя месяц после Нильсового двенадцатого дня рожденья два новые лица появились в Лёнборгорде.
То были новый домашний учитель и Эделе Люне.
Учитель, господин Бигум, был кандидат богословия и стоял на пороге пятого десятка. Приземистый, сильного сложения, он был силен почти как вол, широкогруд, сутуловат, с короткой шеей. Руки были длинны, ноги крепки и коротки, с большими ступнями. Ходил он медленно, ступал тяжело; широко, нелепо и скучно махал руками. Он был рыжебород, как дикарь, и весь в веснушках. Лоб, высокий и плоский, как доска, перерезали между бровей две отвесные морщины, под ними плющился курносый нос, рот был большой, толстогубый. Но глаза глядели светло, ясно и нежно. По движенью зрачков легко замечалось, что он туговат на ухо. Это не мешало ему любить музыку до страсти и предаваться игре на скрипке; ибо звуки музыки — так он говорил — слышны не только уху, но всему телу, их слушает все — глаза, пальцы, ноги, и если вдруг ухо тебе изменит, рука сама найдет верный тон без помощи слуха. Да и все слышимые звуки на поверку фальшивы, но тот, кто наделен свыше музыкальным даром, внутри имеет невидимый инструмент, против которого прекраснейшее из созданий Страдивариуса — всего лишь дудка дикаря; а играет на этом инструменте сама душа, извлекая из струн идеальную гармонию, и с этих–то струн сходят бессмертные творения великих композиторов. Музыка внешняя, колеблющая обычный воздух и доступная уху, — лишь жалкое подражание, робкая попытка сказать несказанное; она схожа с музыкой души не более, чем рукотворная статуя, вырезанная резцом и смерянная меркой, схожа с мраморной мечтой ваятеля, какой вовек не зреть глазам, вовек не славословить устам.
Музыка, впрочем, отнюдь не составляла главного интереса господина Бигума; прежде всего он был философ; но не из тех плодовитых философов, что открывают законы и строят системы. Он потешался над их системами, улиточными раковинами, которые они таскают за собой по бескрайним просторам мысли, наивно полагая, что в этих–то тесных раковинах и заключены бескрайние просторы. А уж законы их! Законы познания, законы природы! Будто открыть закон не то же, что еще раз доказать нашу ограниченность! Настолько я вижу, а дальше не вижу, здесь мой горизонт, — вот что из всякого открытия следует, и ничего более, ибо разве нет нового горизонта за первым, и еще, и еще, снова и снова, горизонт за горизонтом, закон за законом, и так до бесконечности. Нет, он был не из тех философов. Он не считал себя самонадеянным, не считал, что ценит себя слишком высоко, но не мог же он закрывать глаза на то, что ум его постигает большие глубины, нежели те, что доступны другим смертным. Погружаясь в труды великих мыслителей, он словно шагал меж дремлющих гигантов мысли, и, омытые светом его духа, те тотчас пробуждались и сознавали свою мощь. И так всегда; всякая чужая мысль, чувство, настроение, сподобленные отклика в нем, обретали его тавро и такое благородство, чистоту и окрыленность, такое величие, какие творцу их и не снились!
Почти в смирении дивился он часто несказанному богатству своей души и божественной спокойной непогрешимости своего разума, ибо ему случалось судить о мире и его частностях с совершенно противоположных углов зрения и рассуждать о мире и его частностях, исходя из предпосылок, столь же несхожих меж собою, как день и ночь; и, однако же, избранные им и сделанные своими, предпосылки эти ни на единое мгновенье не подчиняли его себе, подобно тому как бог, принимая образ быка или лебедя, ни на единое мгновенье не делается быком или лебедем и не перестает быть богом.