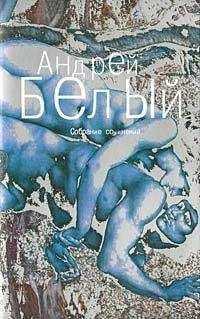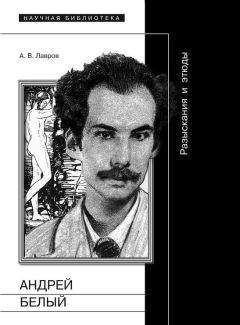Андрей Белый - Серебряный голубь
И, закручивая ус, Дарьяльский пошел к попу, насильно вызывая в душе образ Кати, а под конец затвердил на память любимые строчки из Марциала; но Катя оказалась не Катей вовсе, а вместо строчек из Марциала, неожиданно для себя, он стал насвистывать: «Гоо-дыы заа гаа-даа-мии праа-хоо-дяят гаа-даа… Паа-гии-б я маа-льчии-шка, паа-гииб наа-всии-гда»…
Так неожиданно начался этот день для Дарь-яльского. С этого дня поведем и мы наш рассказ.
Пирог с капустой
– Пфа!…
Это крякнул поп, пропуская с Александром Николаевичем, дьячком, еще по одной и закусывая рыжичками, собираемыми по осень добродетельной попадьей и многочисленными чадами мал мала меньше.
Попадья окончила три класса лиховской прогимназии, о чем всегда любила напоминать гостям; на разбитом пьянино игрывала еще она вальс «Невозвратное время» [10]; была дебелая, толстая, с пунцовыми губками, карими, словно вишенья, глазками на очень нежном, почти сахарном лице, усеянном желтенькими веснушками, но с двойным уже подбородком. Вот и теперь она сыпала шутками о поповском житье, о зипунах сиволапых, да о Лихове, суетясь вокруг пылающего паром пирога и нарезывая громадной величины ломти с необъятными стенками и очень тоненькой прослойкой капусты: «Анна Ермолаевна, откушайте еще пирожка!… Варвара Ермолаевна, что ж так мало?» – обращалась она попеременно к шести спелым дочерям помещика Уткина, образовавшим приятный цветник вокруг опрятно накрытого стола; и стоял птичий щебет, исходивший из шести раскрытых розовых ротиков, да попискиванье о всех новостях, происходящих в округе; ловкая попадья едва успевала накладывать пирога, порой давая шлепки не вовремя подвернувшемуся попенку, слюняво жующему краюху и с неумытым носом; в то же время тараторила она больше всех.
– Слышали ли вы, матушка, о том, что урядник сказывал, будто самые эти сицилисты показались недалече от Лихова, разбрасывали гнусные свои листы; будто хотят они идти супротив царя, чтобы завладеть «Монопольей» и народ спаивать, будто грамоты царь разослал всюду, пропечатанные золотыми буквами, призывая православных бороться за святую церковь: «пролетарии-де, соединяйтесь!»; говорят, что со дня на день лиховский протоиерей ждет царского послания, чтобы разослать его по уезду… – Так неожиданно выпалил Александр Николаевич, дьячок, дернул рябиновым своим носом, и законфузился, когда шесть девичьих головок, устремленных на него, явное выразили и крайнее презренье…
– Пфа! – крякнул поп, наливая Александру Николаевичу наливки. – А ты знаешь, брат, что есть пролетарий?… – И, видя, как то место на дьячковском лбу, где должны бы быть брови (бровей дьячок не носил), изобразило дугу, поп присовокупил с изобразительностью: – Так-то, брат: пролетарий и есть тот, кто, значит, пролетит по всем пунктам, то ись вылетел в трубу…
– Ну, ты это оставь, отец Вукол! – шепнула проходящая попадьиха, обращая свои слова не к приятному и вместе шутливому смыслу поповского пояснения, а к рябиновке, за которой уже не раз протягивался ее благоверный; на что поп буркнул: «Пфа!» и пропустил еще по одной с Александром Николаевичем, дьячком; потом оба они закусили рыжичком.
Дарьяльский молча покуривал на углу стола, то и дело прикладываясь к рябиновке, и уже охмелел, но хмель его странные не развеял думы; он хотя и зашел на пирог, потому что вовсе ему не хотелось идти в Гуголево, однако был так угрюм, что невольно все перестали с ним заговаривать; тщетно уткинские барышни пробовали с ним щебетать; тщетно томные свои на него обращали взоры, обмахиваясь кружевными платочками с явным кокетством; с явным кокетством оправляли они свое декольте; или довольно-таки прозрачно намекали на сердце Дарьяльского и шалуна Купидона, пронзившего оное; Дарьяльский или просто не отвечал, или вовсе невпопад гымкал, или явно соглашался с намеками девиц о состоянии своего сердца, опуская всякую игривость; и совсем уж не обращал он вниманья на девические глазки, ни, тем более, на девическое декольте, увлекательно розовевшее из сквозных их кисей. Два года валандался Дарьяльский в здешних местах, и никто не мог сказать, с какою целью; деловые люди предполагали сперва, что цель есть, что цель должна быть, и что цель эта – противоправительственная; находились и любопытные соглядатаи, любители пошушукать, а при случае и донести (более всех заинтересовался Дарьяль-ским глухонемой Сидор, первый сплетник в округе, не могущий произнести ни одного слова, кроме невразумительного «Апа, апа», – но вразумительно изъясняющийся жестами) – ну, вот: но ни Сидор, ни какие иные не нашли в поведении Дарьяльского ничего вредного; тогда порешили, что появление его в этих местах имеет иной смысл, и что смысл этот – брачный; тогда каждая девица в округе вообразила, будто она-то и есть предмет воздыханий любовных; вообразили это и все шесть уткинских дочерей; и хотя каждая из них вслух называла сестру предметом Дарьяльского, про себя она заключала иное; и потому-то всех, как громом, поразило сватовство его за Катенькой Гуголевой, богатейшей баронессиной внучкой; никто и не воображал, чтобы, откровенно выражаясь, сумело суконное рыло затесаться в калачный ряд. Должен оговориться, что выражение «суконное рыло» употребляли в отношении к моему молодцу в особом обороте: ибо часть тела, в просторечии называемая, с позволения сказать, «рылом», выражаясь просто, была и не суконная вовсе, а, так сказать, «бархатная»: поволока черных глаз, загорелое лицо с основательным носом, алые тонкие губы, опушенные усами, и шапка пепельных вьющихся кудрей составляли предмет тайных желаний не одной барышни, девки, или молодой вдовы, или даже замужней… или, простите за выражение, ну, скажем… так-таки прямо и скажем… самой попадьихи. Поудивлялись, поахали, но скоро привыкли; пребыванье Дарьяльского в наших местах определилось само собою; уж не следили теперь за ним, да и следить было трудно: в баронессину усадьбу не всякий был вхож. Были, правда, иные здесь люди, которые лучше поняли, что нужно моему герою (любви ли, и еще кое-чего), куда устремлялся тоскующий взгляд его бархатных очей, как любострастно да страстно глядел он вперед перед самим собой в то время, когда впереди не было ни единой девицы, ни даже на кругозоре, а кругозор пылал и светился вечерней зарей; понимали и многое они другое в Дарьяльском и, так сказать, окружили его невидимой сетью поглядыванья для каких-то никому неведомых целей; были это люди простые, не образованные вовсе: ну, да о них потом, – скажем только: были такие люди; скажем и то, что если бы разумели они тонкости пиитических красот, если б прочли они то, что под фиговым укрывалось листом, нарисованным на обложке книжицы Дарьяльского, – да: улыбнулись бы, ах какою улыбкой! Сказали бы: «Он – из наших»… Но, да, про то сейчас не время вовсе; но время, как раз, представить самих именитых целебеевцев этих. Так – вот!
Обитатели села Целебеева
Именитые люди, не побрезгуйте нашим селом: частенько наезживало сюда вашего брата и никому уж под конец не удивлялись. Нос не дерите, никакого не будет толку: поспешите, людей насмешите – мужики вас осмеют, и пойдут прочь гурьбой, сморкаясь в руку; оставят одного на лугу перед утками: ходи, мол, один, собирай себе цветы, удивляй уток: разве учительшу повстречаешь; а что учительша: такая, право, гадость.
Ничему-то, как есть, не удивляется народ. Приедешь, гостем будешь; всякими тебя пирогами угостят – голодным не отпустят: лошадям овсеца подсыплют, ямщику поднесут сотку: живи себе на здоровье, отращивай жир: не хочешь, Бог тебе судья: свой век без тебя сумеют прожить целе-беевцы.
Как начнет, бывало, болтливая баба по пальцам пересчитывать именитых гостей, – кого-кого не насчитает: и купца Еропегина, богатейшего лиховского мукомола, и отца благочинного из Воронья, и барона Тодрабе-Граабена, важного генерала (сынка Граабеной старушки, проживающей в Гуголеве), и гостей из Москвы: это гости к поповнам всё ездили, дочерям покойного целебеевского батюшки, девицам достойным, о которых многое есть кое-чего порассказать: обзавелись они тут домком после родителевой смерти – Аграфена Яковлевна, Домна Яковлевна и Варвара Яковлевна; так вот: к ним и студенты хаживали, и сочинители, да: однажды песеннику нас появился: их петь заставлял, с девками хороводы водил, а сам в книжечку все записывал. – «Песельник, и скубент ли, забастовщик ли, – говорили добрые люди, – а, пожалуй, што и забастовщик: долго тут парни горланили апосля: «Вставай, подымайся, рабочий народ!» А куда подымаца? И без него на работу всякий со светом у нас подыматся!»… Станет бойкая баба по пальцам пересчитывать, и будет казаться тебе, что у русского люда только и есть, пожалуй, одно дело: жить в Целебееве или ездить в Целебеево; пересчитала бы всех гостей баба, разве что не хватает пальцев: глазами уставится в землю, а у самой в лице важная эдакая небрежность: «Мы-де сами с усами»…