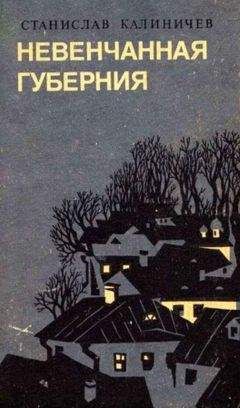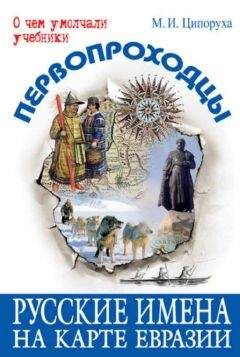Михаил Козаков - Полтора-Хама
— Как зовут тебя, а?
— Давид Сендер, товарищ военрук, — обернулось к нему с козел бурое обветренное лицо, в свою очередь с любопытством еще раз посмотревшее на седока. — Эй, вы, ходуны, пошли!
— Силы в тебе порядочно, вижу… — одобрительно улыбаясь, сказал Стародубский.
— Бог не обидел, — поощренный похвалой, крякнул самодовольно Сендер. — Меня в городе всякий большой и малый гражданин знает: спросите — скажут, кто есть извозчик Давид Сендер. Эй, дорогу освободи!
Серые в яблоках (гордость хозяина) рванулись и впереди всех бодрой рысцой побежали по дыровскому тракту. А через два часа, уже вечером, они доставили военрука в тихий маленький город.
— Куда прикажете? — спросил Сендер.
— Вези в гостиницу — куда ж тут больше!
Вот отсюда, из гостиницы, и пошло через несколько дней гулять по городу не совсем обыкновенное прозвище, данное военруку Стародубскому. Отсюда и пошли о нем те первые сведения, которые вызвали к нему немалый интерес со стороны многих дыровских горожан.
Почти саженный рост приезжего, широкое, сильное тело делали военрука заметным в городе. Так и установилось за ним прозвище: Полтора-Героя. И дала его не кто иная, как содержавшая «меблированные комнаты с обедами» вдова Юлия Петровна (сама имевшая прозвище: «коммунальное ложе»).
Показался героем (именно — героем!) приезжий жилец молодившейся Юлии Петровне. Во-первых, он назвал ее, при первой же встрече, давно забытым уже здесь словом «мадам», а, во-вторых, на вопрос ее, Юлии Петровны, кто он такой, — неожиданно отрапортовал, «как в старое время»:
— Бывшей службы пехотный капитан, ныне — военрук Стародубский.
Воскрешенное слово «мадам» — уже этого одного было достаточно, чтобы вызвать похвалу «истосковавшейся по культуре» Юлии Петровны Синичкиной, открытое же упоминание прежнего офицерского чина — это было смело, даже самоотверженно, это геройство!…
Впрочем, была еще одна причина, вызывавшая искреннее удовлетворение Юлии Петровны поступками военрука Стародубского. Но поведать об этом — это значит быть не совсем скромным и уподобиться той самой ехидничавшей коридорной девке Анютке, которая, уходя ночью из номера приезжего губернского кооператора, ясно слышала в соседнем номере восторженный шепот своей хозяйки… Прочь, прочь недостойное подслушивание и соглядатайство!
С легкого языка Юлии Петровны так и осталось в городе и военруком: Полтора-Героя. Это необычное прозвище обещало скучающим дыровским дамам очень многое. Чем черт не шутит — все может случиться! А почему этому самому «черту» не одарить безропотный Дыровск одной из своих великолепных «шуток»?
Разного ожидали дыровские горожанки: бывший пехотный капитан мог оказаться обладателем прекрасного голоса — почти шаляпинского, может быть; или он сможет быть украшением любительских спектаклей местного наробраза, играя в них Несчастливцева или роль Неустрашимова — мужественного героя из не менее мужественной «коммунистической трагедии» «Красная Свобода», написанной признанным здесь «рабоче-крестьянским поэтом» — Левой Посвистак, бывшим когда-то агентом по продаже сельскохозяйственных орудий.
А если Полтора-Героя лишен был артистических дарований («Это было бы очень печально», — вздыхали местные дамы.), то уж во всяком случае, он имел все необходимые данные стать во главе общественного (не комсомольского) спортивно-экскурсионного кружка и взять в свои руки, скажем, организацию загородных «культурно-просветительных пикников» и катанья на лодках. С ним будет весело и приятно — в этом никто из дыровских мечтательниц не сомневался, — да уж и очень хорошо рекомендовала всем военрука вполне довольная им Юлия Петровна Синичкина…
Так отнеслись к приезду его горожанки. Горожане же безмолвствовали и выжидали.
А когда Полтора-Героя, пожив несколько дней в меблированных комнатах — с огорчением отпустившей его — Юлии Петровны, переселился по ордеру в дом бывшего купца Сыроколотова, где раньше жил его, военрука, предшественник, — горожане и горожанки не без основания считали, что пребывание его в семье Сидора Африкановича будет наилучшим образом способствовать наиболее тесному знакомству с бывшим пехотным капитаном.
Однако военрук Стародубский вскоре же всех разочаровал. Он не обнаружил ни особых качеств, ни особого своего внимания к местному «беспартийному обществу», о чьей симпатии к нему, бывшему пехотному капитану, поспешил доложить старик Сыроколотов.
Первых постигло разочарование — горожанок. Встречаясь на базаре с Нюточкиной матерью, они неизменно спрашивали об одном и том же:
— Ну, что? Как военрук, Елизавета Игнатьевна? Как наш Полmopa—Героя? А?
Нюточкина мать морщилась, неодобрительно кривила губы и делала жест отчаяния.
— По-прежнему!
— А что?
— Пьет — вот что! Как лошадь какая… Угрюмничает!
— Скажите-ка на милость! Пьет? А… а Нюточка как ему?
— Нюточке он не пара — о чем уж тут говорить! Он к ней -псе равно что к вам… — успокаивала Елизавета Игнатьевна подозрения любопытных горожанок.
— Так говорите — пьет? Угрюмничает? — в раздумье переспрашивали они, и кто-нибудь из них, из сочувствия к пьющему Полтора-Герою, тотчас же находил причину такого состояния военрука:
— Неудивительно, знаете, конечно… Ей-богу, неудивительно! Ведь сознательный русский человек и запить теперь может. Каково ему, настоящему военному? А? Понятное дело, иродово племя на коне!…
А вскоре о военруке Стародубском перестали расспрашивать, и прозвище его, Полтора-Героя хотя и осталось за ним, по получило оправдание только лишь в глазах благодарной Юлии Петровны. Дыровский базар — место, где узнавались наиболее интересные новости и сплетни, — забыл о военруке и снова зажил своей обычной жизнью.
Вот так.
К полудню затихал базар — застывал трясущийся людской студень, брошенный вдоль каменной мостовой у старой церкви Покрова Пресвятыя Богородицы.
В небе — солнце скороспелое чрево свое горячее выперло, духота на земле, размеренность; в городских домах закрыли (для «холодка») деревянные ставни, хозяйки давно уже состряпали обед, нужды в покупке уже ни у кого нет, — а базар все же не исчезает, людской студень не растапливается на солнце, не растекается от духоты.
До позднего дня хлюпается, трясется, бубнит базар у ног Покрова Пресвятыя Богородицы, а прикроется денное горячее чрево предвечерним паутинным оползнем — студень тает.
И остаются уже тогда, словно обглоданные кости: голые ларьки на запоре, базарные лавы да десяток дыровских нищих, подбирающих, соревнуясь с дыровскими собаками, базарные отбросы.
А до солнечного оползня — и завтра так будет, и вчера было, под солнцем ли, под дождем ли — хлюпались люди в дыровском студне, словно законсервированная жидкость: не меняясь.
У церковной ограды и до самых дверей «Сельхозкоопа», сидя рядком на тротуаре и нахлобучив картузы, покуривали и беседовали местные извозчики о своих всегдашних делах — о ценах на овес, о конских торгах, назначенных в военкомате, о руках военкоматского завхоза: прилипают ли к ним бумажки, и сколько нужно, чтоб они прилипли… Почти нет работы для извозчиков в самом Дыровске, потому что коротки улицы в Дыровске и оскудел карман у здешнего горожанина.
У базарных ларьков — свои разговоры, и тоже о ценах; на мясо, рожь, на гуся и на яйца, на кожу и материю.
А последнее время еще политикой на базаре занимались. Соберутся соседи по ларькам и обсудят все.
— Херзон, говорят, Джонбулю на коммунистов двигает — во как!
— Джонбулю? Это как же?… Пулемет вроде али держибабель?
— Держибабель — не иначе!
— Да уж не скажу наверно, только известно, что выдумал англичанин против коммунистов новую штукенцию. Сам вчерась слыхал: хамсомол в газете вычитывал. У нас, известное дело, насупротив такой выдумки…
— Ни хрена! Не выдумать против Джонбули! Никак!
— Наши больше насчет обложения да налогов!
— А он, гляди, и припрет суднами к самой Москве!
— Будьте у Верочки!…
…За тротуаром, подпоясанная железной оградой — долгие годы нерушимо стоит старая церковь. Снять ее, оскудевшую, из-за ограды, поднять над дыровским студнем и опустить над ним, над хлюпким скопищем дыровских горожан — колпаком послужит. По мерке.
Глухой колпак… Тяжелый…
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Полтора-Героя превращается в Полтора-Хама
Сегодня, как и всегда почти, пришел вечером Юзя: высокий, тонкий, с лицом, густо вкрапленным веснушками, с желтым миндалем узких глаз — мягких и влажных, как два расплескавшихся в обнаженной скорлупе век яичных желтка. Изможденное, просвечивающееся лицо обросло жесткой каштановой бородкой — и оттого Юзя кажется значительно
старше своих двадцати четырех лет.