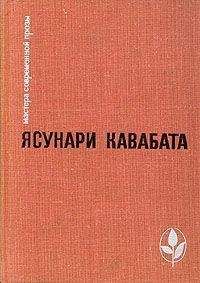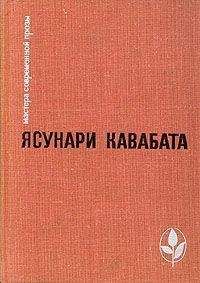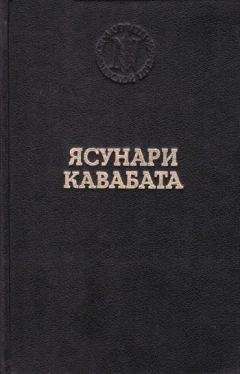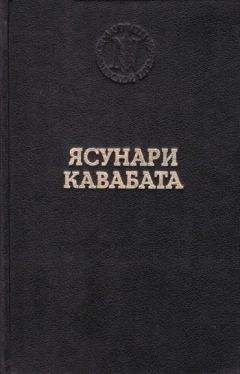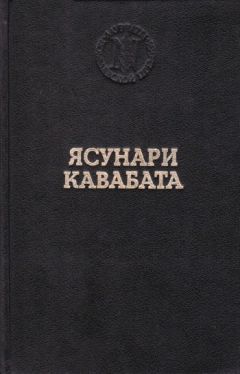Ясунари Кавабата - Существование и открытие красоты
Открытие красоты «Гэндзи» принадлежит Мотоори Норинага (1730–1801). Он писал в «Драгоценном гребне „Гэндзи-моногатари“»: «Среди многих моногатари „Гэндзи“ особенно восхитителен, непревзойден. Ни до него, ни после нет ему равных. Какое ни возьми из старых моногатари, ни одно не проникало столь глубоко в сердце… Никто так не умел воплотить „печальное очарование вещей“ и не давал столь проникновенных описаний. Авторы последующих повестей учились на „Гэндзи“… но все же уступали ему во всех отношениях. По глубине и по умению одухотворять все, к чему ни прикоснется, автор „Гэндзи“ ни с кем не сравним. Нечего говорить, что и стиль его великолепен. Восхитительны пейзажи, вид неба — как оно меняется от сезона к сезону: весной, летом, осенью, зимой. А мужчины и женщины изображены столь ярко, что кажется, будто встретился с живыми людьми, начинаешь принимать участие в их делах. И каждый из них дан сам по себе. Ощущение реальности создает зыбкая, неясная манера письма… Наверное, уж ни в Японии, ни в Китае не появится подобное сочинение, воплотившее дух необыкновенного человека. Оно не могло появиться ни раньше, ни теперь, и впредь не появится». Норинага имел в виду не только прошлое, но и будущее. Можно подумать, что слова «ни теперь, ни впредь» Норинага написал в запальчивости, повинуясь порыву чувства, но, к несчастью, его пророчество сбылось. В Японии на самом деле так и не появилось произведения, равного «Гэндзи-моногатари». Возможно, выражение «к несчастью» не совсем подходит к данному случаю, но не я один так думаю. Я лишь часть народа, который 950 или 1000 лет назад создал такое произведение, как «Гэндзи-моногатари», и льщу себя надеждой, что появится писатель, которого можно будет поставить рядом с Мурасаки Сикибу.
Когда Рабиндранат Тагор (1881–1941), мудрейший поэт Индии, приехал в Японию, он сказал в своей речи: «Долг каждой нации проявить перед миром свою национальную сущность. Если же нация ничего не дала миру, это следует рассматривать как национальное преступление, это хуже смерти и никогда не прощается человеческой историей. Нация обязана представить лучшее из того, что есть у нее. Благородная душа и есть богатство нации, а ее достояние в умении, преодолевая свои узкие интересы, отправить всему миру приглашение принять участие в празднике ее духовной культуры». Он также сказал, что «Япония дала жизнь совершенной по форме культуре и развила в людях такое свойство зрения, когда правду видят в красоте, а красоту в правде».
В давние времена подарив миру такое произведение, как «Гэндзи-моногатари», мы выполнили, по выражению Тагора, свой национальный долг. Но разве помимо радости не испытываешь грусти оттого, что мы не можем предложить миру нечто подобное и вряд ли сможем сделать это в ближайшем будущем.
«Думаю, что долг иностранца, вроде меня, напомнить японцам, что это они развили такое свойство зрения, когда правду видят в красоте, а красоту в правде. Япония и впрямь достигла в этом некоего совершенства. И долг иностранца, вроде меня, напомнить им об этом. Иностранцу, видимо, легко понять, что отличает японцев. Человечеству дорого именно то, что среди множества наций выделяет Японию, проявляясь не в ее способности приспосабливаться к другим, а вырастает из сути ее внутреннего духа». Эти слова Рабиндранат Тагор произнес при первом посещении Японии в 1916 году, читая лекцию в университете Кэйо под названием «Душа Японии». В то время в Японии существовала еще старая школьная система. Я учился в средней школе и видел его фотографию в газетах, до сих пор помню, какое сильное впечатление произвел на меня образ мудрого старца с длинными густыми волосами, длинной бородой, с умными, глубокими глазами, высокого, в свободных индийских одеждах. Его седые волосы, обрамляя лоб, мягко падали на плечи, и оттого, что пряди были такими же длинными, как борода, они, казалось, сливались с ней. В мою мальчишескую голову навсегда запал этот образ древнего мудреца Востока. В поэзии и прозе Тагора есть вещи на английском, вполне доступные ученику средней школы, и я кое-что к тому времени уже читал.
Тагор и его спутники прибыли в порт Кобе, а оттуда поездом в Токио. Тагор рассказывал впоследствии своим друзьям: «Когда мы приехали на станцию Сидзуока, я увидел группу монахов, которые пришли меня приветствовать. Возжигая благовония, они молились сложив ладони. Тогда-то впервые я почувствовал, что нахожусь в Японии. Я был растроган до слез». Говорят, это были монахи, около двадцати человек, буддийской секты Сисэйкай из Сидзуока.
Тагор был в Японии еще два раза. Второй раз он приехал в 1924 году — год спустя после страшного токийского землетрясения.
«Вечная свобода духа проявляется в любви, великое — в малом, безграничное — в ограниченной форме» — главная мысль Тагора.
Я упомянул только что о Сидзуока, и так получилось, что здесь, в отеле на Гавайях, я наслаждаюсь чаем «синтя» префектуры Сидзуока. Этот чай нового урожая собирают в «восемьдесят восьмую ночь». В этом году восемьдесят восьмые сутки после начала весны приходятся на 2 мая. В Японии с давних времен считают чай, собранный в восемьдесят восьмую ночь, целебным напитком, чудодейственным лекарством, которое помогает от всех болезней, предохраняет от старости, способствует долголетию, вселяет бодрость духа. Во время сбора чая повсюду слышна песня. И эта милая сердцу каждого японца песня напоминает о приближении лета:
Восемьдесят восьмая ночь,
Приближается лето.
В полях и горах
Появилась молодая листва.
Меж кустами мелькают
Шляпы сборщиков чая.
На рассвете, после того как минует восемьдесят восьмая ночь, деревенские девушки выходят на чайные поля собирать молодые побеги чая. На них соломенные шляпы, и красными повязками перехвачены темно-синие рукава.
Этот свежий чай, собранный 2 мая, выслал мне авиапочтой через местное чайное управление мой друг, проживающий в префектуре Сидзуока, и 9 мая я получил его в своем отеле, в Гонолулу. Заварив как полагается, я насладился ароматом Японии начала мая. Этот чай не в виде порошка, как на чайных церемониях, а в виде целых зеленых лепестков. На чайных церемониях и ныне принято приготавливать слабый или крепкий чай в зависимости от вкуса гостей и времени года. Настоящий гость почтительно расспросит хозяина о сорте чая. Чайные мастера любят давать разным видам чая изысканные названия. В запахе и вкусе зеленого чая, впрочем, как в запахе кофе и черного чая, непременно скажется характер и настроение того, кто его приготовил. Искусство приготовления зеленого чая, которым увлекались любители литературы эпох Эдо (1603–1868) и Мэйдзи (1868–1912), ныне пришло в упадок. Но и теперь, чтобы по-настоящему приготовить зеленый чай, требуется особая сноровка, особое настроение и знание тайны этого искусства.
Стоило мне с радостным чувством заварить новый чай, как распространился тонкий, приятный аромат. К счастью, в Гонолулу хорошая вода. Наслаждаясь свежим чаем на Гавайях, я переносился мыслями на чайные поля Сидзуока. Эти чайные поля лежат на холмах. Я любовался ими, когда бродил по тракту Токайдо и из окна поезда, как они выглядят утром и вечером в лучах восходящего или заходящего солнца, когда между рядами чайных кустов ложатся темные тени. Чайные кусты на этих полях низкорослые, листва же густая, и цвет листьев, за исключением совсем молодых, темно-зеленый с черноватым оттенком, и потому темные полосы между рядами выделяются. На рассвете тихо пробуждается зеленый цвет, в сумерках погружается в безмятежный сон. Когда однажды вечером я смотрел из окна поезда на холмы, кусты чая показались мне стадом спокойно спящих зеленых овец. Это было до строительства новой железной дороги Токайдо, по которой от Токио до Киото молено добраться за три часа. Пусть на новой линии ходят самые быстрые в мире поезда, но на большой скорости почти совсем теряется вид из окна. В прежние времена, когда поезд не мчался с такой быстротой, молено было любоваться из окна чайными полями Сидзуока. Они навевали разные мысли. Среди дорожных впечатлений одно было особенно сильным, волнующим — вид дороги в Оми, открывающийся взору, когда въезжаешь в префектуру Сига. То самое Оми, о котором Басё сложил хайку:
Об уходящей весне
Сожалею
Вместе с жителями Оми.
Когда бы я ни был в Оми весной, я непременно вспоминаю хайку Басё и, поражаясь открытой Басё красоте, настраиваюсь на ее лад. Конечно, выходит, что я довольно произвольно обращаюсь к хайку Басё. Но человек нередко берет понравившееся стихотворение или повесть и воспринимает по-своему, пропуская через себя, невзирая на замысел автора, не вникая в суть произведения, не обращая внимания на мнения и толкования критиков и ученых. Так и с классикой. Когда автор кладет кисть, произведение начинает жить своей жизнью и своим путем идет к читателю. Будет ли оно жить или погибнет — это уже зависит от читателя, а не от автора.