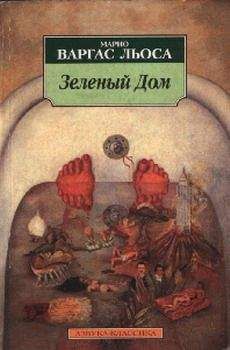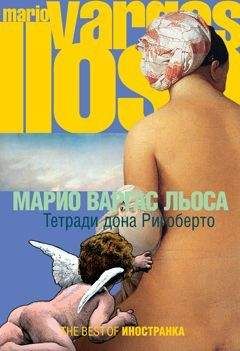Марио Льоса - Вожаки
Дело в том, что в обществе, где мачизм возведен в культ, наличие девушки выполняет, кроме всего прочего, и важную социальную роль. Щенки из Мирафлореса ищут подруг не только по зову плоти, но и просто для того, чтобы они были, чтобы иметь возможность похвастаться перед окружающими. Неудивительно поэтому, что «на следующий год… за Чабукой вместо Лало стал ухаживать Чижик, а за Японочкой вместо Чижика — Лало», — важно, чтобы никто не оставался без пары. В эту же игру друзья предлагают сыграть и Куэльяру, но детская травма, видимо, изменила и его внутренний мир: он влюблен по-настоящему и не хочет сделать свою избранницу несчастной ради того, чтобы казаться таким, как все.
В «Щенках» из юношеского кодекса чести — обязательного и, безусловно, необходимого, чтобы регламентировать жизнь подростков, объединить их в коллектив, вместе пережить сложные моменты взросления, — вырастает модель поведения взрослых обывателей, которые ради самосохранения не принимают чужака, нарушающего эту модель.
В. А. Лахтинг предложил еще один, как кажется, вполне правомочный вариант истолкования повести об «однажды укушенном». В год публикации «Щенков» Варгас Льоса о[15] публиковал статью «Себастьян Саласар Бонди и призвание писателя в Перу», в которой, в частности, писал: «Перуанские поэты и прозаики являются таковыми, пока они молоды, а потом окружение их меняет: одних присваивает, приспосабливает к себе; других сокрушает и отбрасывает. Такие ощущают себя морально побежденными, несостоявшимися как писатели, и все, что им остается, невыразимо печально: леность, скептицизм, распущенность, неврозы и алкоголь».[16] Именно такой (с понятной поправкой на «распущенность») оказалась жизнь отвергнутого обществом Фитюльки Куэльяра. В судьбе его — согласимся с Лахтингом — можно видеть метафору положения литератора в Латинской Америке. Но ведь сам Варгас Льоса сознательно занимается тем, что опровергает неизбежность подобного исхода — своей верностью главному своему делу, своими публичными выступлениями, самим строем своей жизни.
В художественных произведениях перуанский писатель часто пишет о поражении; его литературно-критические эссе, напротив, удивляют своим оптимизмом. Особенно это касается ранних его текстов. Видимо, тут сыграли роль и быстрый безоговорочный успех самого Варгаса, и признание в нем «своего» со стороны старших собратьев по цеху, и пришедшийся на шестидесятые годы «бум» латиноамериканского романа в целом. Эссе Варгаса Льосы о литературе, собранные в нашей книге, написаны человеком, который трудом и талантом отстоял и продолжает отстаивать право на свое призвание, видит и заново открывает заслуги тех, кто был до него, и готов поделиться своими открытиями с людьми, ради которых пишет, — с новыми читателями. Такая позиция не может не вызывать уважения, и слова Габриэля Гарсиа Маркеса о своем молодом друге и о себе самом как нельзя лучше характеризуют атмосферу, в которой писались ранние произведения Марио Варгаса Льосы: «Ты, и Кортасар, и Фуэнтес, и Карпентьер, и другие пытаются на протяжении двадцати лет доказать, набивая себе шишки на лбу, что читатели нас слышат. Мы стараемся доказать, что в Латинской Америке мы, писатели, можем жить за счет читателей, что это единственный вид помощи, которую мы, писатели, можем принять».[17]
Кирилл Корконосенко
ВОЖАКИ
Хавьер на секунду подался вперед.
— Звонок! — прокричал он на ходу.
Напряжение взорвалось оглушительно, словно бомба. Все мы уже на ногах; доктор Аббсало стоит с открытым ртом. Он покрывается румянцем, сжимает кулаки. Когда, придя в себя, он заносит руку и, кажется, вот-вот запустит в нас своей отповедью, звонок и вправду звенит. Мы выбегаем опрометью, с оглушительным грохотом, обезумевшие, подстрекаемые вороньим карканьем Амайа, который бежит впереди, опрокидывая парты.
Двор наполнен криками. Третьи и четвертые классы вышли раньше и образовали большой круг, который двигался, поднимая пыль. Почти одновременно с нами появились первоклассники и второклассники, их воинственные вопли добавили ненависти. Круг увеличился. Негодование Средней школы было единодушным. (У Начальной был свой маленький двор с синими мозаиками в противоположном крыле школы.)
— Горец хочет нас завалить.
— Да, черт возьми.
Никто не говорил о выпускных экзаменах. Блеск зрачков, шум, волнение означали, что настал момент выступить против директора. Не задумываясь, я перестал сдерживаться и начал лихорадочно перебегать от группы к группе: «Он нас завалит, а мы промолчим?» «Надо что-то делать». «Надо что-то делать».
Железная рука выхватила меня из центра круга.
— Ты — нет, — сказал Хавьер. — Не суйся. Тебя исключат. Ты же знаешь.
— Теперь это неважно. Он мне за все заплатит. Это мой шанс, понимаешь? Давай их построим.
Мы пошли по двору, от одного к другому, вполголоса повторяя на ухо: «постройтесь», «быстро в строй».
— Строиться! — клич Райгады потряс душный утренний воздух.
Многие голоса слились в хор:
— Строиться! Строиться!
Инспекторы Гайардо и Ромеро удивленно наблюдали, как ни с того ни с сего, до окончания перемены, суматоха прекратилась, и началось построение. Они стояли напротив, опираясь о стену возле учительской, и взволнованно смотрели на нас. Затем они переглянулись. В дверях появилось несколько учителей, они тоже были изумлены.
Инспектор Гайардо приблизился к нам.
— Послушайте! — выкрикнул он нерешительно. — Еще не…
— Заткнись, — оборвал его кто-то из задних рядов. — Заткнись, Гайардо, пидор!
Гайардо побледнел. Широко шагая, с угрожающим видом, он врезался в строй. За его спиной многие кричали: «Гайардо, пидор!»
— Будем маршировать, — сказал я. — Будем ходить по кругу. Сначала те, что из пятого.
Мы начали маршировать. С силой чеканили шаг, до боли в ногах. На втором круге (мы выстроились в четкий прямоугольник, как раз по размерам двора) Хавьер, Райгада, Леон и я начали:
— Рас-пи-санье, рас-пи-санье, рас-пи-санье…
Хор стал общим.
— Громче! — раздался голос того, кого я ненавидел: голос Лу. — Кричите!
Тут же крик превратился в оглушительный рев:
— Рас-пи-санье, рас-пи-санье, рас-пи-санье…
Учителя осторожно ретировались, закрыв за собой двери учительской. Когда пятиклассники прошли возле угла, где Теобальдо с лотка торговал фруктами, Лу сказал что-то, чего мы не услышали. Судя по его жестам, он нас подбадривал. «Свинья», — подумалось мне.
Крики нарастали. Но ни чеканность марша, ни ритмичность выкриков не помогали скрыть наш страх. Ожидание было тоскливым. Почему он медлит и не выходит? Все еще прикидываясь бесстрашными, мы повторяли наше слово, но некоторые уже начали переглядываться, и время от времени слышались резкие натужные смешки. «Ты не должен ни о чем думать, — говорил я себе. — Не сейчас». Кричать стало тяжело: я охрип, и у меня жгло в горле. Вдруг, почти непроизвольно, я посмотрел на небо: проследил за ястребом, который мягко планировал над школой, под синим сводом, ясным и глубоким, освещенным с одной стороны желтым, словно веснушка, диском. Я быстро опустил голову.
Маленький, с синеватым лицом, Ферруфино появился в конце коридора, ведущего в прогулочный двор. Его коротенькие шажки вперевалку, словно утиные, нарушили тишину, которая внезапно, к моему удивлению, воцарилась. (Дверь учительской открывается, высовывается маленькое смешное лицо: Эстрада хочет пошпионить за нами, видит директора в нескольких шагах, мгновенно убирается, закрывает дверь своей детской ручкой.) Ферруфино стоит напротив нас, пробегает вытаращенными глазами по группам онемевших учеников. Ряды смешались: одни сбежали в туалет, другие в отчаянии окружили прилавок Теобальдо. Хавьер, Райгада, Леон и я стояли неподвижно.
— Не бойтесь, — сказал я, но никто меня не услышал, потому что одновременно со мной директор произнес:
— Дайте звонок, Гайардо.
Снова построились в ряды, на этот раз не спеша. Жара пока еще была терпимой, но мы уже страдали от какой-то сонливости, некоей разновидности скуки.
— Они устали, — пробормотал Хавьер. — Это плохо. — И злобно предупредил: — Не поддавайтесь на разговоры!
Остальные передали его предостережение по рядам.
— Нет, — сказал я. — Подожди. Они рассвирепеют, как звери, лишь только Ферруфино заговорит.
Прошло несколько секунд тишины, подозрительно тяжелой, прежде чем мы один за другим подняли взгляд на этого человечка в сером. Он спокойно стоял, сложив руки на животе, сдвинув ноги.
— Я не хочу знать, кто затеял этот балаган, — произнес он.
Настоящий актер: размеренное, мягкое звучание голоса, почти сердечные слова, монументальная поза — все было тщательно продумано. Должно быть, он тренировался наедине у себя в кабинете.