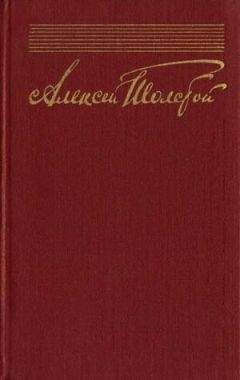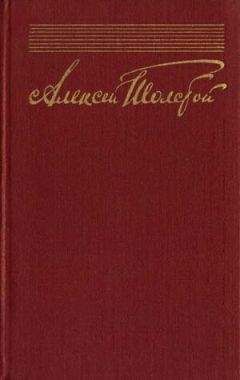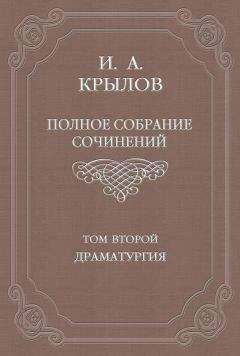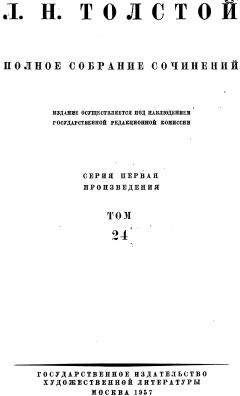Толстой Л.Н. - Полное собрание сочинений. Том 88
Девять лет (1897—1906) прожил Чертков в изгнании, в Англии, почти не покидая окрестностей Лондона, где он поселился, и лишь после революции 1905 г., за четыре года до смерти Толстого, получил право вернуться на родину. Но и в России преследования продолжались: Черткову, в частности, запретили жить поблизости от Толстого — «в пределах Тульской губернии».
Все это во всяком случае способствовало «расцвету» переписки Толстого с Чертковым, она заменяла им недостающее личное общение. (Сосчитано, что в среднем каждые десять дней между ними происходил обмен письмами.)
Исторический период, охватываемый письмами Толстого к Черткову, — это эпоха первой русской революции, наполненная до отказа интенсивнейшей политической борьбой, захватившей все классы, все общественные слои царской России. Толстой отвергал и осуждал политическую деятельность, однако до последних дней жизни остро реагировал на современные общественные сдвиги, и его письма полны прямых откликов на них. «События нудят, требуют ответа на них», — пишет Толстой в письме Черткову в 1905 г. Обличение революции, отрицательное отношение к революционной борьбе, гневная оценка деятельности правительства — все это одна из повторяющихся тем писем Толстого к Черткову. В них отчетливо видно то противоречие, отмеченное В. И. Лениным, по которому Толстой, будучи «зеркалом русской революции», однако «явно не понял» и «явно отстранился» от революции.
Еще в 1881 г. Толстой записал в Дневнике проницательные слова: «Революция экономическая не то что может быть. А не может не быть. Удивительно, что ее нет».3 Зорким оком художника, порвавшего со своим классом и глубоко осуждающего современность с новых позиций — позиций простого трудящегося человека, Толстой видел тот развал, к которому пришли в конце XIX столетия абсолютистская империя и весь современный, по его выражению, «людоедский» строй. Во всех участившихся в последнее десятилетие XIX века взрывах освободительной борьбы в России, в трагических схватках лучших русских людей с самодержавием, которые кончались политическими процессами и казнями, Толстой прозорливо и веще слышал «предвозвестье революции».4 Литературная деятельность самого Толстого, резко выступавшего с обличением существующего строя, раскрывавшего скрытые «язвы» русской жизни — нищету и рабский труд крестьянства, паразитизм обеспеченных слоев общества, охранительную и лицемерную роль церкви, — эта деятельность сама стала большим революционизирующим фактором, хотя субъективно сам Толстой ждал и добивался совсем иного.
В то время уже в сознании Толстого оформилось свое представление о путях выхода из этого всемирного царства тьмы и несправедливости. Толстой, при всей ярости его атак на современное общественное состояние, находился, как известно, на диаметрально противоположных позициях, нежели те, кто был готов видоизменить существующий несправедливый порядок революционным способом. Толстой — создатель религиозно-нравственного учения, основанного на догматах «непротивления злу насилием» и «самоусовершенствования». Спасение человечества, общества — и тех, кого угнетают, и тех, кто угнетает, — Толстой увидел в обновлении религиозного чувства на почве «очищенного» христианства путем глубокой внутренне-нравственной работы человека по приближению себя к «богу» — не церковному, мистическому «верховному существу», но к «богу подлинному», знаменующему собой растворение личности в любви «ко всем за всё», в неделании зла и пассивном самобережении от всяческого греха. Именно тогда, по мысли Толстого, когда будет исполнена единственная заповедь любви, данная человеку при рождении, сойдет на нет естественным путем все зло, все несправедливости и насилия, причиняемые людьми друг другу, и воцарятся меж людей братство и чистота.
Этот переворот в мировоззрении Толстого, его обличительный поход против современности во всех ее аспектах, весь этот «кризис» в жизни, миросозерцании и творчестве Толстого гениально точно объяснен в статьях В. И. Ленина:
«...Своеобразие критики Толстого и ее историческое значение состоит в том, что она с такой силой, которая свойственна только гениальным художникам, выражает ломку взглядов самых широких народных масс в России указанного периода и именно деревенской, крестьянской России... Протест миллионов крестьян и их отчаяние — вот что слилось в учении Толстого».5 Марксистская мысль высоко оценивала «протестантские» стороны деятельности Толстого, разоблачавшего обман и мнимость всех общественных устройств в эксплуататорском обществе, обрушивавшего на головы «властителей и судей» неслыханную по мощи и смелости критику как публицистическими средствами, так и средствами своего изумительного искусства. Но передовые люди в то же время понимали то, что с такой определенностью высказал В. И. Ленин: «Борьба с крепостническим и полицейским государством, с монархией превращалась у него в отрицание политики, приводила к учению о «непротивлении злу», привела к полному отстранению от революционной борьбы масс 1905—1907 гг. Борьба с казенной церковью совмещалась с проповедью новой, очищенной религии, то-есть нового, очищенного, утонченного яда для угнетенных масс».6
Все эти диссонансы и противоречия мировоззрения Толстого, его до крайности двойственное отношение к освободительному движению масс эпохи подготовки и самой революции 1905 г. ярко выразились в письмах к В. Г. Черткову. О той безграничной резкости и по сути дела революционности, с которой Толстым отрицалось современное ему глубоко несправедливое жизненное устройство, говорит, например, его замечание о сущности буржуазно-помещичьего государства (у Толстого — это государство «вообще», но в этом и сказывается у него идеалистическая постановка вопроса. Однако поражает страстная обличительность и широта этого суждения): «...теперь мне представляется мысль о том, что государство и его агенты — это самые большие и распространенные преступники, в сравнении с которыми те, которых называют преступниками, невинные агнцы: богохульство, кощунство, идолопоклонство, убийство, приготовление к нему, клятвопреступления, всякого рода насилия, мучения, истязания, сечение, клевета, ложь, проституция, развращение детей, юношей (читание чужих писем в том числе), грабеж, воровство — это всё необходимые условия государственной жизни».7
Но, превосходно зная все пороки современного прогнившего государства, общества и всего «соревновательного устройства» (этим термином у Толстого обозначался частнособственнический, капиталистический порядок, буквально испепеляя их своим словом, Толстой, однако, видел народное спасение не в реальной деятельности по переустройству жизни, не в классовой борьбе пролетариата с его угнетателями, не в тех материальных изменениях, которые прежде всего революционным путем должны были быть проведены в действительности. Он рассуждал как идеалист. Мысленно споря с самым передовым мировоззрением эпохи — революционным марксизмом, Толстой писал в Дневнике 3 августа 1898 г.: «Ошибка марксистов (и не одних их, а всей матерьялистической школы) в том, что они не видят того, что жизнью человечества движет рост сознания, движения религии, более и более ясное, общее, удовлетворяющее всем вопросам понимание жизни, а не экономические причины».8 Толстой и попытался найти для своего времени это «общее, удовлетворяющее всем вопросам понимание жизни», совершенно утопически надеясь одними нравственными, идеальными средствами изменить неправедный мир. Проповедь среди людей «детских», евангельских истин, нравственных заповедей Христа и ставка на самоусовершенствование каждого в духе этих заповедей любви и «всепрощения» — вот то, что по Толстому должно было действенно изменить ход истории.
Отсюда — отрицательное отношение Л. Толстого к современной ему политической деятельности революционеров и к активным, самостоятельным выступлениям угнетенных народных масс, все более решительно шедших год от году на прямое столкновение с царской властью и на захват в свои руки буржуазно-помещичьей собственности и управление страной. 31 августа 1902 г. Толстой по этому поводу замечает в письме к Черткову: «Желать присвоить то, что сделали другие... прямо безнравственно, и сказать это надо, если убежден в этом, несмотря на то, что это оттолкнет и озлобит социалистов». Путь революционных действий, путь политической и экономической борьбы угнетенных с угнетателями казался Толстому искони «безнравственным», губительным и не соответствующим его требованиям «непротивления злу» и «самоусовершенствования».
Обращаясь к угнетаемым с проповедью непротивленчества и любви, с призывами «нравственным спасением» добиться лучшей жизни, Толстой с такой же проповедью обращался и к угнетателям. В раздираемом классовой враждой мире он хотел «апостольски» примирить враждующие стороны на почве единого нравственного стремления, которое якобы открывает ищущему человеку путь внутреннего совершенствования и отказа от всего того зла, какому он, может быть бессознательно, служил. С этой точки зрения для Толстого становятся равны и одинаково достойны «спасения» как люди из правительственного лагеря, слуги правящего класса, так и те, кто, не щадя жизни, борется с ними, — революционеры. Поэтому, например, в одном из писем, думая о преследуемых властью революционерах, Толстой восклицает: «Помоги бог им и их гонителям». Поэтому же в печатаемых письмах наряду с высказываниями, в которых звучит яростное негодование против современных форм жизни, против государства и его «агентов», мы находим постоянное тяжелое насилие автора над собой (хотя Толстой не раз замечает, что «сбивается») с целью заглушить в себе гнев против конкретных носителей государственного «зла», сменить тон обличения на тон христиански-смиренный и соболезнующий. В этой своей борьбе с самим собой, в борьбе «непротивленца» с мятежным Толстым, автор писем подчас кажется «помещиком, юродствующим во Христе». Создатель убийственных в русской литературе портретов представителей «царствующего дома» и царских слуг приходит к противоестественному желанию «сверх-братски» любить Столыпина и Николая II. Так далеко заходил Толстой в своем стремлении объединить мир — все классы, все лагери и партии — одной спасительной религиозно-нравственной идеей христианской любви, непротивлением злу и иными утопическими «воздыханиями» о человеке. Но вся эта философия «добра» и «всепрощения» совершенно недостаточна для сдерживания непосредственных чувств и мыслей гениального писателя. Сквозь специфическую фразеологию «толстовства» в письмах Толстого к Черткову пробивается смятенный, все время ищущий и могучий человеческий дух, охваченный гневом и болью при виде страданий народа и паразитически пользующегося плодами рабского труда класса «дармоедов» (так с народной резкостью именует в эти годы Толстой верхушечные слои общества). Почти каждый взрыв негодования и ужаса сопровождается покаянием в недостатке «любви», в греховной резкости выражений, опасением вызвать озлобленность со стороны тех, кого это касается, но события эпохи, врываясь в жизнь писателя, нарушали его жажду гармонии и мира.