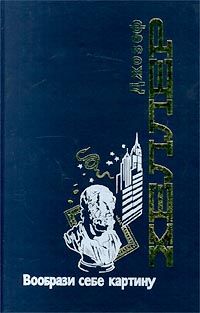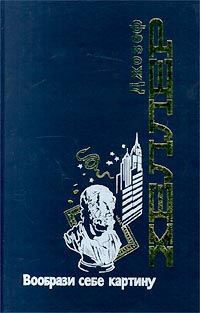Василий Вонлярлярский - Ночь на 28-е сентября
ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ
Сию минуту вышла из экипажа, распечатала претолстый пакет писем, полученных с почты, отыскала твое, не прочла его, а проглотила с жадностью – и мне снова сгрустнулось. Охота тебе, друг мой, напоминать о всех прелестях петербургской жизни, и кому же? бедным обитателям М-ского уезда! Ты, Sophie, не великодушна, и месяц назад послание твое стоило бы мне много слез; но, увы! в эту минуту и ум, и чувства, и даже сердце мое охладели и притупились до того, что самая тоска не вырывает не только жалоб, но даже вздоха; я начала довольно благоразумно смотреть на светские удовольствия, и – о, проза! ценю здоровье выше радостей. Из слов твоих я заключила, что будущий сосед мой произвел на тебя впечатление, но скоро ли же прибудет к нам твой Старославский, и как не потрудиться было описать его подробнее? Объясняют ли что-нибудь слова: «очень мил, оригинален, интересен, и проч.» и к кому не приклеиваются подобные эпитеты? От нечего делать иногда я старалась представить себе этого Старославского, придавала ему качества всех прочих моих знакомых – конечно, порядочных – и потом, окончив идеал, спрашивала сама у себя, мог ли бы он понравиться мне, и всегда внутренний голос отвечал мне: нет! В самом деле, допустим, что молодой человек этот хорош собою, следовательно, глаза его или черные или голубые, цвет лица бледный, волосы черные, каштановые, наконец, белокурые, нос римский или греческий. А ум? Какого рода может быть ум Старославского? Серьезен – тоска; насмешлив, зол – обыкновенно; ум гостиных – пуст; ну какой же, спрашиваю? Первая встреча ограничится, разумеется, поклоном, двумя или тремя французскими фразами, остроумными reparties[13] и описанием последних петербургских происшествий, балов, гуляний и прочее, и прочее. Но станет ли он ухаживать за мною? конечно, да! А нет – опять тоска. Допустим интереснейшее, то есть первое, предположение; не слыхала ли я уж сто раз всего, что скажет мне влюбленный Старославский? не встречались ли его будущие взгляды с моими взглядами, и не исчислены ли вперед все подобные случаи всеми романистами нашего времени? О боже! как ограничены у людей средства нравиться, и как дурно, как безрассудно они поступают, не запирая прекрасного пола нашего до минуты замужества в высоких, неприступных теремах! Но довольно об этом и в сторону философию. М-ский уезд, поверь мне, богаче новизною вашего блестящего света, и ты же, Sophie, просила меня продолжать мой журнал – я повинуюсь.
Дальняя родственница наша, Агафоклея Анастасьевна Грюковская, считается одной из самых богатых и почетных дам в околотке; она вдова, толстая, красная, с маленьким лбом в парике, с бородавкою на левой веке, с белою бровью над правым глазом и с перстнями на всех пальцах; четыре дочери, столько ж приживалок, тьма слуг, плохих картин – все это помещено в длинном деревянном строении с двумя крыльцами и бельведером. Когда мы подъезжали к деревне Грюковской, во всех местах, где мы останавливались, всюду говорили нам, что Агафоклея Анастасьевна ожидает нас с минуту на минуту. Сама же Агафоклея Анастасьевна уверяла нас в противном и показала вид удивления при нечаянном прибытии нашем. Такова деревенская политика! Ожидать – считается только что не унижением в М-ском уезде. Так называемые кузины мои могли бы быть не дурны; они с розовыми щеками; некоторые белокуры, другие брюнетки и все с прехорошенькими глазками и зубками (кроме старшей), но все так жеманны и аффектированны, что, право, смешно; для чего все это? не понимаю. Ни одного слова не скажут они просто, всякое движение головы должно быть заучено прежде, и восклицаниям нет конца… утомительно! Я спросила у старшей, пресентименталыюй девицы, курит ли она. «Ах, как это можно!» – «Отчего ж?» – «Вы шутите, кузина; нет, наверное шутите: mais c'est une horreur!»[14] В ответ на эти возгласы я зажгла папироску. Меньшие, впрочем, которых в семействе считают детьми, несмотря на их двадцатидвух– и двадцатитрехлетний возраст, довольно милы, но вертлявы и наивны через меру; они краснеют по заказу и делают из невинности род службы; волосы их подстрижены и завиты в кружок; одеты они в короткие платьица с черными шнурочками и коралловыми крестиками на шеях; они не ходят вовсе, а бегают. Старшая, Антонина, ученее прочих, литературные споры решаются ею; слова ее – закон для семейства.
Одинаковыми с нею преимуществами пользуется в доме, и даже в околотке, единственный сын Агафоклеи Анастасьевны – тридцатилетний брюнет с лицом молочного цвета, прозванный Купером, иначе Куприяном Савичем; Купер, или Куприян, так замечателен в своем роде, что нельзя не сказать о нем несколько слов. Он, во-первых, влюблен в себя до безумия; разговаривая тихо, протяжно и отборными выражениями, кузен мой как бы прислушивается с наслаждением к собственному голосу и только что не рукоплещет ему. Несколько литературных произведений, прочитанных только в семействе, доставили Куперу титул поэта, и он носит этот титул с самодовольствием и гордостью; по мнению его и Антонины, он имеет необыкновенное сходство с Байроном, потому что, подобно знаменитому британскому лорду, хромает на одну ногу и очень редко стрижет свои ногти. Молодой Грюковский долго не являлся на зов матери, по словам которой, на него, как на всех поэтов, нападает по временам ужасная хандра, и тогда никакие земные побуждения недоступны его творческой, превыспренней душе – вот слово в слово тирада Агафоклеи Анастасьевны – вероятно, выученная ею со слов сына. Заключение это я вывела из последующих бесед моих с Купером. Ты помнишь, Софья, что я одарена способностью представлять всех и что некоторых я представляю в совершенстве; к числу последних, по всей справедливости, принадлежит молодой родственник наш. Я не только переняла манеры и голос его, но выучилась говорить его фразами; таких фраз ты не услышишь, конечно, во всю свою жизнь, если не познакомишься с самим поэтом. Например, выхваляя мой взгляд, он выразился так: «Кузина! как чудно упоителен взор ваш и как гармонически потрясает он фибры сердца!» При этом Купер задвинул зрачки глаз своих за верхние веки, закрыл лоб рукою, покачал головой и, как бы в изнеможении, развалился в креслах. Слушая сына, Агафоклея Анастасьевна с торжествующей улыбкой поглядывала на меня, а Антонина вздыхала и делала из глаз своих почти то же, что и брат. Вот тебе очерк семейства, которое в М-ском уезде ставят за образецcomme il faut[15] и сколько, говорят, жертв сделано Куприяном и Антониною в Заднепровском крае.
К следующему дню приезда нашего готовился спектакль: в одной из кладовых ставили сцену, расписывали декорации, строили подмостки для публики, и нередко до слуха нашего урывками долетала музыка и слова водевильных куплетов, повторяемых поочередно несколькими дочерьми Агафоклеи Анастасьевны несчетное число раз. Какие пьесы готовились к спектаклю – хранилось пока в тайне; гостей к представлению ожидали множество. Вечер прошел в угощениях и картах; за несколько минут до ужина приехало сначала одно из соседних семейств, вовсе не интересное, а потом какой-то старик с серебряною головою; тем и ограничилось общество наше, к видимому неудовольствию хозяев. Из-за стола встали гораздо за полночь, нимало не желая спать, я предложила прогулку и подала руку Куперу, который престранно посмотрел на меня, но поспешил надеть свои грязные перчатки и последовать за мною в сад. Ни одна из сестер не оказала желания сопутствовать нам: одна боялась сырости, другая змей, третья подвержена была вечным флюсам, и мы отправились вдвоем. Причины, представленные сестрами поэта, были одна другой неосновательнее, потому что воздух был едва прохладен, тумана и сырости заметно не было, а змеи существовали только в воображении чувствительной Антонины. Молодой месяц то забегал за белые, прозрачные облака, то снова появлялся на темно-синем небе и как в бесконечном зеркале отражался в обширном и чистом пруде, вставленном в кудреватую рамку лоз и тростника; изредка раздавались всплески воды от падавших в нее с неба диких уток, и тогда полночный концерт прибрежных птиц умолкал на минуту и снова начинался под мерный и звонкий стук чугунной доски сельского сторожа… Мы прошли сад, плотину и стали взбираться на холм. По обеим сторонам дороги расстилались необозримые нивы, по которым местами отделялись, подобно островам, темные букеты деревьев; вдали, на горизонте, чернелся лес. Я почувствовала, что Купер едва заметно пожал мне руку, и посмотрела на него с удивлением; он кашлянул, поправил фуражку; мы пошли далее. «Вы преэксцентрическое существо, кузина!» – сказал мне поэт, вздыхая и пожимая мою руку. «С вами, cousin, пренеловко ходить», – отвечала я тем же тоном, освобождая руку свою. Он стал извиняться, уверял, что прелесть ночи и очарование общества моего перенесли его в лучший мир. Что до меня касается, то, предпочитая по крайней мере оставаться в этом мире неприкосновенною, я решительно пошла одна и старалась по возможности сохранить положенную мною дистанцию между поэтом и мною. С полчаса времени слышались мне выспренние фразы Купера, по счастью не требовавшие ответов, потому что они обращались к моему лицу не прямо, но рикошетами, по столкновению с эдемом, с миром миров, с затерянным в пространстве сонмом звезд, и проч. Между тем мы достигли вершины холма, и новый предмет привлек мое внимание: вдали пред нами показалась беловатая точка, очень похожая на каменное здание, освещенное луною. «Что это там белеется?» – спросила я у Купера, указывая на точку. «Это село Вершнево, или Грустный Стан, кузина». – «Странное название!» – заметила я. «Последним названием своим, – продолжал поэт, – обязано оно какому-то несчастному случаю». – «А вы знаете этот случай?» – «Нет, не совсем; к тому же невозможно верить всякому вздору, хотя, впрочем, нельзя не согласиться, что и до настоящей минуты на всех потомках владельцев села лежит печать чего-то необыкновенного». – «Кому же принадлежит село в эту минуту?» – «Одному престранному существу, – отвечал небрежно поэт, – человеку, нестерпимому по своим интеллектуальным качествам, человеку, отрицающему всю поэзию, вложенную судьбою в души избранных, и не признающему даже самых осязательных, самых доступных преимуществ натур поэтических». – «Но кто же, наконец, этот чудак?» – воскликнула я с нетерпением. «Некто Старославский». Я невольно вскрикнула. «Он мне приятель», – прибавил Купер. Мне досадна стала мысль, что Старославский, тот самый, про которого ты писала ко мне, – приятель моего родственника; известие это рассеяло в один миг все очарование; я даже не потрудилась дослушать подробного исчисления недостатков будущего соседа и возвратилась домой в самом неприятном расположении духа. Последняя надежда – видеть хотя одного интересного человека в этой пустыне – уничтожилась; это просто ужасно, это невыносимо! А как много обещали хорошего и название «Грустный Стан», и твои письма! Подходя к крыльцу, мы встретили в различных местах сада боязливых кузин, являвшихся перед нами как бы из-под земли; каждая из них расспрашивала меня иронически, далеко ли мы ходили, приятно ли провели время и не приключилось ли нам чего-нибудь необыкновенного; сначала я не могла понять, к чему клонились все эти вопросы, но двусмысленные слова Антонины навели меня на истинный путь: сестры поэта находили неприличною и опасною прогулку с их очаровательным братцем, а намеками выражалось желание дать мне почувствовать, что от проницательных глаз их не ускользнуло убийственное впечатление, произведенное поэтом на мое сердце. Пожелав всему семейству покойной ночи, я просила указать мне мою комнату и, признаюсь, была неприятно удивлена, узнав, что комната, мне назначенная, была спальня четырех сестриц со всеми ее прозаическими принадлежностями. Несколько горничных бросилось на нас со всех сторон; напрасно старалась я уверить их, что довольствуюсь услугами собственной; они, не обращая внимания ни на просьбы мои, ни на увещания, только что не насильно раздевали меня и засыпали вопросами, не угодно ли того, не угодно ли другого; наконец ночной туалет кончился, и мы остались впятером, погруженные в премягкие перины, слишком мягкие, потому что толстый веревочный переплет кровати очень явственно напоминал о себе всему телу. Не помню, о чем толковали мы до глубокой ночи. Признаюсь тебе, chиre amie, я всячески старалась навести разговор на Старославского, и старалась, верь мне, потому только, что он интересует тебя. После долгих прелюдий мне удалось наконец назвать Грустный Стан. «Ах, это имение Старославского!» – воскликнула одна из вечно прыгавших кузин. «А вы его знаете?» – спросила я равнодушно. «Немного. Он никуда не ездит, и, сколько Купер ни старался с ним сблизиться, никак в этом не успел». Наивный ответ блондинки успокоил меня несколько: поэт мог вообразить, что он дружен с Старославским; но начало было сделано, и продолжать разговор я могла, не возбудив в проницательных девицах ни удивления, ни сомнения; та же блондинка сделала мне претёмный портрет твоего знакомого: по мнению ее, Старославский был или ограниченный, или дурно воспитанный молодой человек, предпочитающий охоту приятному обществу; он не знал лишений, выполнял все свои прихоти и кончит так, как кончает большая часть ему подобных… Его встречали кузины мои на окрестных дорогах, звали к себе, но он, забыв все приличия, сказал им однажды, что у них скучно, и с тех пор, разумеется, они отворачивали голову, завидя его вдали, и избегали с ним всяких встреч. Признаюсь тебе еще раз, друг мой, что справедливое негодование сестриц на Старославского сделало мне гораздо больше удовольствия, чем дружба к нему поэта, и под влиянием последнего впечатления закрыла я глаза и открыла их от нестерпимого блеска солнца, достигшего половины своего обычного пути. Перестаю писать, потому что устала, и папa зовет прогуливаться. Прощай, mon ange[16] до завтра. Пишу большею частью по утрам: память в это время рисует прошлое и ярче и живее.