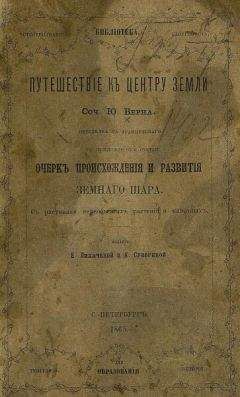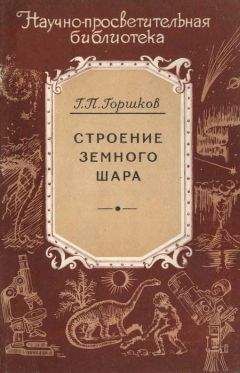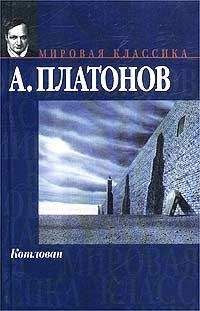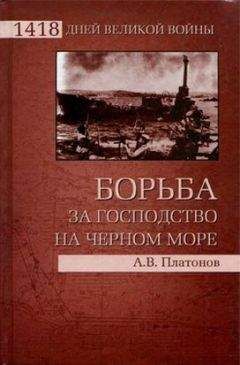Андрей Платонов - Ювенильное море
Вместе с ним из совхоза вышла молодая женщина и пошла с ним нечаянно рядом. Она была немного привлекательна, но, видимо, проста и доверчива, так как шла и рассматривала человека объективно, как вещь, еще не чувствуя к нему ни вражды, ни любезности. А Вермо уже стеснялся ее как человек, у которого сердце всегда живет под напором скопившейся любви и который, не испытав еще, быть может, женщины, уже боится исчезнуть в неизвестном направлении собственной страсти, невнимательно храня себя для высшей доли. Но втайне, стесненным сердцем, Николай Вермо мог любить людей сразу, потому что тело его было уже заранее переполнено безысходной жизнью. Он осмотрел в последний раз женщину — она действительно сейчас добра и хороша: черные волосы, созревшие в жаркой степи, покрывали ее голову и приближались к глазам, блестевшим уверенным светом своего чувства существования; ее скромный рот, немного открытый (от внимания к постороннему), показывал прочные зубы, которые потемнели без порошка, и грудь дышала просторно и терпеливо, готовая кормить детей, прижать их к себе и любить, чтобы они выросли. Вермо возмужал от волнения, его стеснительность прошла, и он сказал женщине хриплым, не своим голосом:
— Как скучно бывает жить на свете!
— Отчего скучно? — произнесла женщина. — Нам тоже еще невесело, но уже нескучно давно…
Инженер остановился; спутница его также дальше не пошла, и он снова неподвижно рассматривал ее — уже всю, потому что и туловище человека содержит его сущность. Глаза этой женщины были сейчас ясны и осторожны: безлюдье лежало позади ее тела — светлый и пустой мир, все качество которого хранилось теперь в этом небольшом человеке с черными волосами. Женщина молча стояла перед своим дорожным товарищем, не понимая или из хитрости.
— Скучно оттого, что не сбываются наши чувства, — глухо проговорил Вермо в громадном и солнечном пространстве, покрытом дымом пастушьих костров. — Смотришь на какое-нибудь лицо, даже неизвестное, и думаешь: товарищ, дай я тебя поцелую. Но он отвернется — не кончилась, говорит, классовая борьба, кулак мешает коснуться нашим устам…
— Но он не отвернется, — ответила женщина.
— Вы, например? — спросил Вермо.
— Я, например, — сказала женщина из совхоза.
Вермо обнял ее и долго держал при себе, ощущая теплоту, слушая шум работающего тела и подтверждая самому себе, что мир его воображения похож на действительность и горе жизни ничтожно. Тщательно все сознавая, Вермо близко поглядел в лицо женщины, она закрыла глаза, и он поцеловал ее в рот. Затем Вермо убедился еще раз в истинности своего состояния и, сжав слегка человека, уже хотел отойти в сторону, сохраняя приобретенное счастье, но здесь женщина сама придержала его и вторично поцеловала.
— Суешься уже? — сказал огорченный и забытый голос со стороны.
Пока двое людей глядели друг в друга, подъехал верхом третий человек —Умрищев и загодя засмеялся такому явлению — поцелую в степи.
— Она мне очень понравилась! — ответил Вермо, и ему опять стало скучно от лица Умрищева.
— Ну и пускай понравилась, а ты не суйся! — посоветовал Умрищев. — Тебе нравится, а ты в сторону отойди — так твое же добро целей-то будет: ты подумай…
— Проезжай, Умрищев, — сказала женщина. — На гурте доярка удавилась: я с тобой считаться иду!
— Ну-ну, приходи, — охотно согласился Умрищев. — Только в женскую психиатрию я соваться не буду.
— Я тебя сама туда всуну — обратно не вылезешь, — сказала женщина обещающим голосом.
— Не сунусь, женщина! — ответил Умрищев. — Пять лет в партии без заметки просостоял оттого, что не совался в инородные дела и чуждые размышления, еще двадцать просостою — до самого коммунизма — без одной родинки проживу: успокойся, Босталоева Надежда!
Умрищев тут же уехал, а женщина, Надежда Босталоева, еще постояла, думая уже не о своем ближайшем товарище, а о мертвой доярке, но глаза ее были все такими же, как и во время дружбы с Вермо.
По дороге до гурта инженер узнал, что его попутная подруга работает секретарем гуртовой партячейки и ей здесь тяжело, иногда мучительно, зачастую страшно, но она не может сейчас жить какой-либо легкой жизнью в нашей стране трудного счастья.
Босталоева шла впервые на этот гурт; до того она работала на другом гурте, но теперь здесь стало слишком тяжко и сложно
— прежний секретарь на здешнем гурте пал духом, и комитет партии послал сюда — в «Родительские Дворики»— Надежду Босталоеву, чтобы разбить и довести до гробовой доски действующего классового врага.
— Гурт «Родительские Дворики» находился в русле древней речки, высохшей лет тысяча тому назад. Два землебитных жилища составляли убежище гуртовщиков на зимнее время, а для укрытия от летнего ненастья лежали по окрестной степи громадные выдолбленные тыквы.
Судя по ландшафту, насколько хватало зрения, гуртовая база была расположена разумно и удобно: ровно и спокойно лежала земля на десятки видимых верст, как уснувшая навеки, беззащитная и открытая зимнему холоду и всем безлюдным ветрам; лишь по одному месту та земля имела впалое положение, и там было слабое затишье от вихрей непогоды — это был след, прорытый древней и бедной рекой, теперь задутой суховеями, погребенной наносами до последнего ослабевшего источника, умолкшей навсегда. Но памятники реки, в виде песчаных выносов, еще лежали на гуртовой усадьбе, и для их зарощения в песок были посажены прутья шелюги и чернотала, а между теми прутьями и самородными лопухами лежали ночлежные пустые тыквы великого размера.
Посреди гуртового места находился срубовый колодезь, и две женщины непрерывно вытаскивали ручною силой воду из глубины земли и относили ее в бак — для питья людям и животным.
Те «Родительские Дворики» имели списочное число коров — четыре тысячи, не считая быков, лошадей, волов и разной мелкой подспорной живности в форме кроликов, овец, кур и прочих существ. Стало быть, сам тот гурт составлял из себя уже мощный мясосовхоз и являлся надежным источником мясной пищи для пролетариата.
Когда Вермо и Босталоева только пришли на гурт, Умрищев там уже господствовал и проверял все элементы хозяйства, какие попадались ему навстречу. По сторонам Умрищева ходили два человека — заведующий гуртом зоотехник Високовский и старший гуртоправ Афанасий Божев.
— Вы должны вести себя, как две мои частности, — говорил им Умрищев на ходу, — и бездирективно никуда не соваться.
— Нам это, Адриан Филиппович, понятно: обстановочка ведь суетливая!-охотно и даже счастливо отвечал Божев, а сам улыбался всем своим чистым и честным лицом, на котором приятно находились два благожелательных глаза степного светлого цвета.
Високовский молчал. Он любил скотину саму по себе и давно собирался уйти работать в область племенного животноводства, дабы воспитывать скот для рождения потомства, а не для убийства; он был худой по телу, может быть, потому что больше ел молоко, прудовую рыбу, кашу и редко брал говядину, и знал свою науку с угрюмой точностью — видел в любом животном не только вес и продуктивность, но одновременно и субъективное настроение. За это его любили в скотоводческом объединении и платили ему большие средства, которые он, не имея родных, тратил на баловство любимой скотины; например, он приобретал шерстяной материал и сам шил чулки на зиму для кроликов, угощал быков солеными пышками, построил стеклянную теплицу печного отопления, с тем чтобы там росла зимой свежая кормовая трава для мужающих телят, которым уже надоело молоко, — и еще многое другое совершил Високовский ради любви своей к делу.
Меж тем Умрищев совершал свои замечания по гурту. Выйдя в пекарню, он отпробовал хлеба и сказал ближним подчиненным: «Печь более вкусный хлеб». Все согласились. Выйдя наружу, он вдруг задумался и указал Високовскому и Божеву: «Серьезно продумать все формы и недостатки». Божев сейчас же записал эти слова в свою книжку. Увидя какого-то человека, тихо шедшего стороною, Умрищев произнес: «Усилить трудовую дисциплину». Здесь что-то помешало Умрищеву идти дальше, он стал на месте и показал в землю: «Сорвать былинку на пешеходной тропинке, а то бьет по ногам и мешает сосредоточиться». Божев наклонился было, чтобы сразу уничтожить былинку, но Умрищев остановил его: «Ты сразу в дело не суйся, ты сначала запиши его, а потом изучи, — я же говорю принципиально: не только про эту былинку, а вообще, про все былинки в мире». Божев спешно записал, а Високовский шел рядом, ничего не говоря и не делая. Вскоре на тропинку выбежал кролик и от внезапного ужаса не мог бежать и стал на задние ноги, обратив лицо прямо к людям.
— Хорошее животное! — оценил Умрищев кролика.
— Да, оно ничего: оно милое, Адриан Филиппович! — согласился Божев.
Невдалеке показалась свинья; она подошла к Умрищеву и покрутила около него хвостом, что также понравилось Умрищеву, и он одобрил это животное.