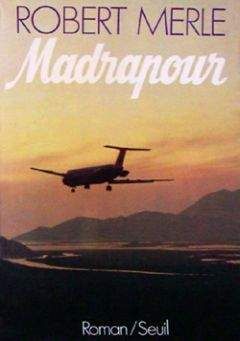Курбан Саид - Девушка из Золотого Рога
— Профессия?
— Студентка.
— Ах вот как, коллега! — воскликнул Хаса. — Тоже медик?
— Нет, филолог — ответила девушка.
Хаса поправил рефлектор.
— Посмотрим, что привело вас ко мне? Так, боль в горле. — Его левая рука автоматически нащупала шпатель. — Изучаете германистику?
— Нет, я — тюрколог.
— Кто, простите?
— Я занимаюсь сравнительным исследованием тюркских языков.
— Боже мой! И зачем вам это?
— Просто так, — сердито ответила она и раскрыла рот.
Хаса исполнял свой врачебный долг с толком и расстановкой. Но мысли его при этом делились на профессиональные и личные. Профессионал в нем установил: результат риноскопии — anterior et posterior — без патологий. Легкое покраснение левой барабанной перепонки, но без болезненности при надавливании. Признаков otitis media нет. Ограниченная местная инфекция. При лечении учитывать анамнез. А как частное лицо он думал: сравнительное изучение тюркских языков! Неужели и этим можно всерьез заниматься! Даже имея такие серые глаза! Анбари — сказала она. Это имя я где-то слышал. Ей, наверное, нет и двадцати, а какие мягкие волосы.
Он отложил рефлектор, отодвинул табурет и деловито сказал:
— Tonsillitis. Начинающаяся angina folicularis.
— А на немецком — заурядная ангина, — улыбнулась девушка, и доктор Хаса решил больше не употреблять латыни.
— Да, — сказал он, — естественно, постельный режим. Вот вам рецепт для полоскания. Никаких компрессов, домой на машине, диета. А почему все-таки тюркология? Что вам это дает?
— Мне это интересно, — скромно ответила девушка, и сияние ее глаз разлилось по всему лицу. — Вы не представляете, сколько существует диковинных слов, и каждое из них звучит, как барабанная дробь.
— У вас температура, — сказал Хаса, — оттого и барабанная дробь. Я где-то слышал ваше имя. Был такой губернатор в Боснии, которого звали Анбари.
— Да, — проговорила девушка, — это был мой дед.
Она поднялась. Пальцы ее на мгновение утонули в широкой ладони доктора Хасы.
— Приходите еще, когда будете здоровы… Я имею в виду, если понадобится дополнительное лечение.
Азиадэ подняла глаза вверх. У врача была смуглая кожа, черные, зачесанные назад волосы и широкие плечи. Он очень отличался от таинственных капитанов подводных лодок и дикарей-рыболовов с берегов безымянных рек. Девушка быстро кивнула ему и пошла к выходу.
На вокзале у Фридрихштрасе Азиадэ остановилась и задумалась. Врач что-то говорил о машине. Она сжала губы и решила пошиковать. Высоко подняв голову, девушка пошла мимо вокзала в направлении Линдена. Там она села в автобус, прислонилась к мягкой кожаной спинке сиденья и довольно подумала о том, что машина является всего лишь скромной diminutivum[8] плавно катящегося автобуса.
— До Уландштрассе, — сказала она кондуктору, протягивая монетку.
Глава 2
Их полутемная комната располагалась на первом этаже, и оба окна выходили во внутренний двор. В центре комнаты стояли покрытый клеенкой стол и три стула, с потолка свисала голая лампочка на длинном шнуре. У стен с ободранными обоями были плотно придвинуты друг к другу кровать и диван. Единственную свободную стену занимал шкаф, дверца которого закрывалась при помощи сложенной газеты. Рядом висели несколько пожелтевших фото. Ахмед паша Анбари сидел за столом, уставившись на выцветший узор обоев.
— Я заболела, — сказала Азиадэ и села на стул.
Ахмед паша поднял голову. Его маленькие, черные глаза испуганно взглянули на дочь. Азиадэ зевнула и зябко поежилась. Пока Ахмед паша поспешно стелил ей постель, Азиадэ быстро разделась, а потом, сидя на краю кровати, сбивчиво, дрожа в ознобе, стала рассказывать о якутском окончании «а» и о постороннем мужчине, который заглядывал ей в горло.
Глаза Ахмеда паши переполнились ужасом.
— Ты ходила к врачу одна?
— Да, отец.
— И тебе пришлось раздеться?
— Нет, отец, честное слово, нет, — равнодушным голосом ответила она.
Азиадэ легла и закрыла глаза. Руки и ноги ее, казалось, были налиты свинцом. Она слышала шаркающие шаги Ахмеда паши, звон серебряных монет.
— Чай с лимоном, — прошептал он кому-то за дверью.
Ресницы Азиадэ дрожали. Из-под полуприкрытых век она смотрела на пожелтевшие фото, на которых ее отец был изображен в шитом золотом парадном мундире, феске и лайковых перчатках, с саблей на боку. Азиадэ глубоко вздохнула и внезапно услышала запах пыли с моста Галата, и аромат фиников, которые когда-то сушились в угловой нише ее комнаты.
Послышалось тихое бормотание. Ахмед паша стоял на коленях на пыльном ковре и, касаясь лбом пола, шепотом молился, и под этот шепот давно знакомых слов Азиадэ виделись большой, круглый шар солнца и древняя крепостная стена Константина у ворот Стамбула. Янычар Хасан взбирался по стене и водружал флаг османского дома на старой крепости. Азиадэ прикусила губу. У римских ворот сражался Михаил Палеолог, а Фатих Мухаммед несся по трупам в Айя-Софью и обнимал обагренными кровью руками ее византийские колонны.
Азиадэ поднесла руку ко рту. Дыхание было горячим и влажным.
— Бокса! — вдруг громко воскликнула она.
— Что с тобой, Азиадэ? — Ахмед паша стоял, склонившись над ее кроватью.
— Карагазский дательный падеж для джагатайского «богус» — «горло», — ответила девушка.
Ахмед паша озабоченно посмотрел на нее, набросил поверх одеяла еще и шубку, а потом продолжил намаз.
А Азиадэ виделись в горячечном полусне узкие плечи султана Вахтетдина, который проезжал мимо строя солдат к пятничной молитве. Маленькие лодки кружили по Татлы-Су, а газеты писали о завоеваниях на Кавказе, о победах немцев и предрекали великое будущее Османской империи.
Кто-то дотронулся до ее волос. Она открыла глаза и увидела отца со стаканом в руках. Она прополоскала горло какой-то противной на вкус жидкостью и серьезно сказала:
— Полоскание ономатопоэтично, все это нужно воспринимать с точки зрения истории звука, — и снова упала на подушки, закрыв глаза, щеки ее пылали нездоровым румянцем. Ей грезились степи, пустыни, дикие всадники и полумесяц над дворцом на Босфоре.
Потом, отвернувшись к стене, она долго горько плакала. Ее маленькие плечи вздрагивали, она вытирала рукой слезы, стекавшие по лицу. Все рухнуло в тот день, когда чужой генерал занял Стамбул и изгнал из страны священный род Османов. Ахмед паша тогда величественным жестом отшвырнул свою саблю в угол и долго плакал в маленьком восточном павильоне своего конака.
Все в доме знали, что он плачет, слуги с сочувственным молчанием стояли на пороге. Никто не решался потревожить хозяина. Затем отец позвал Азиадэ, и она вошла к нему. Паша сидел на полу, одежды его были разодраны.
— Наш султан изгнан, — сказал он, не глядя в ее сторону. — Ты знаешь, что он был моим другом и повелителем. Отныне этот город стал чужим для меня. Мы уезжаем отсюда, очень далеко.
Он подвел ее к окну, и они долго смотрели на медленные волны Босфора, на купола больших мечетей и далекие серые холмы, за которыми когда-то первые отряды Османов поднялись против Европы.
— Мы уедем в Берлин, — сказал Ахмед паша, — ведь немцы наши союзники.
Азиадэ уже не плакала. В комнате было темно. С дивана доносилось тихое дыхание Ахмеда паши. Девушка сидела на кровати и широко раскрытыми глазами глядела куда-то вдаль. Она тосковала по Стамбулу, по старому дому, по мягкому воздуху родины. В почти осязаемой близости виделись ей минареты города калифов, и безмолвное отчаяние охватило ее. Ничего не осталось, все погибло. Все, кроме мягкого звучания родного языка и любви к древнему роду, некогда прославившему османский дом.
«Дедушка был губернатором Боснии», — подумала она и вдруг вспомнила, как врач коснулся своим коленом ее бедра. Она закрыла глаза и снова увидела его черные, слегка раскосые глаза.
— Скажите «а», — говорил врач, а вокруг его головы сиял нимб.
— «А» — это якутская форма, а я — турчанка, и мы говорим в родительном падеже «и», — с гордостью ответила ему Азиадэ и заснула, нежно поглаживая под одеялом свое крепкое бедро.
Тревожно прислушиваясь к дыханию дочери, Ахмед паша лежал в постели с закрытыми глазами и думал о своих сыновьях, уехавших из дома защищать империю и не вернувшихся назад, о дочери, которая должна была выйти замуж за принца, а теперь задыхается в океане варварских иероглифов, о своем кошельке, в котором было сто марок — все состояние дома Анбари — и одновременно он думал о султане, который жил на чужбине и так же, как и он, тосковал по воздуху родины.
Когда за окном окончательно рассвело, Ахмед паша встал и заварил чай. Проснувшаяся Азиадэ выпрямилась на кровати и гордо заявила:
— Я уже совершенно здорова, Ваше превосходительство!