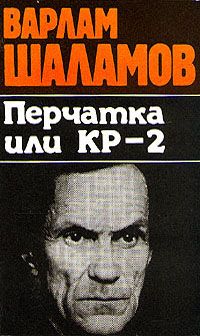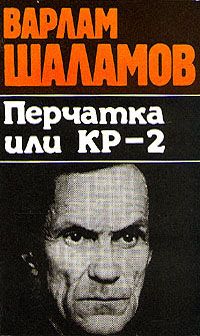Варлам Шаламов - Вишера. Перчатка или КР-2
- В opганax! В органах! - эхом откликался этап. Работавших в органах не находилось.
Вдруг откуда-то сзади протиснулся к Стукову человек в штатском бумажном костюме, белокурый, а может быть черноволосый, и зашептал:
- Я осведомителем работал. Два года.
- Пошел прочь! - сказал Стуков, и осведомитель исчез.
У меня не было "багажа": солдатская шинель и шлем, молодость - все это было минусом в глазах Щербакова, - я попадал неизменно на глиняный пол сарая.
Приносили кипяток, давали хлеб на завтрак, селедку, ставили парашу. Смеркалось, и все засыпали всегда одинаково страшным арестантским сном с причитаниями, всхлипываниями, визгом, стонами…
Утром выгоняли на поверку и двигались дальше. Первым же утром под матерщину, окрики проволокли перед строем чье-то тело: огромного роста человек лет тридцати пяти, кареглазый, небритый, черноволосый, в домотканой одежде. Подняли на ноги. Его втолкнули в строй.
- Драконы! Драконы! Господи Исусе!
Сектант опустился на колени. Пинок ноги начальника конвоя опрокинул его на снег. Одноглазый и другой - в пенсне, Егоров (потом он оказался Субботиным), стали топтать сектанта ногами; тот выплевывал кровь на снег при тяжелом молчании этапа.
Я подумал, что, если я сейчас не выйду вперед, я перестану себя уважать.
Я шагнул вперед.
- Это не советская власть. Что вы делаете?
Избиение остановилось. Начальник конвоя, дыша самогонным перегаром, придвинулся ко мне.
- Фамилия?
Я сказал.
Избитый черноволосый сектант - звали его Петр Заяц - шагал в этапе, утирая кровь рукавом.
А вечером я заснул на полу в душной, хоть и нетопленой, избе. Эти избы хозяева охотно сдавали под этап - небольшой доход для бедной пермяцкой деревни. Да и весь этот тракт оживился с открытием лагеря. Шутка сказать -за беглеца платили полпуда муки. Полпуда муки!
Было жарко, тесно, все сняли верхнюю одежду, и в этой потной духоте стал я засыпать. Проснулся. По рядам спящих ходил Щербаков, и другой боец подсвечивал ему "летучей мышью". Кого-то искали.
- Меня?! Сейчас оденусь.
- Не надо одеваться. Выходи так.
Я даже испугаться не успел - они вывели меня на двор. Была холодная лунная ночь уральского апреля. Я стоял под винтовками на снегу босиком, и ничего, кроме злости, не было в моей душе.
- Раздевайся.
Я снял рубашку и бросил на снег.
- Кальсоны снимай.
Я снял и кальсоны.
Сколько простоял времени, не знаю, может быть, полчаса, а может быть, пять минут.
- Понял теперь? - донесся до меня голос Щербакова.
Я молчал.
- Одевайся.
Я надел рубашку, кальсоны.
- Марш в избу!
Я добрался до места. Никто меня ни о чем не спрашивал. Мои опытные соседи, блатари, видели и не такие вещи. Я для них был фраер, штымп.
Когда этап прибыл в лагерь, принимать вышел комендант 1-го отделения Нестеров.
- Претензий к конвою нет?
- Нет, - сказали.
- Нет, - сказал Петр Заяц.
Через год я случайно встретил Зайца на улице, на лагерной улице. Поседевший, изможденный. Вскоре я узнал, что он умер.
Никогда и никто не вспоминал этого случая. Но через два года, когда я работал уже на большой лагерной работе (в те годы заключенный мог занимать почти любую лагерную должность), в наше отделение в качестве младшего оперуполномоченного был переведен Щербаков. Он счел нужным отдать мне визит, хоть и был вольнонаемным, а я - заключенным. Он пришел ко мне вечером.
- Работать вот сюда приехал.
- Как же ты думаешь здесь работать? - сказал я.
- Да ведь, слышь, тогда с нами беглецы были. Ведь нельзя было иначе.
- Да ты что - боишься, что я начальству заявление подам?
- Да нет, просто так.
- Не мели, Щербаков. Не мели и не бойся. Заявлений я никаких подавать не буду.
- Ну, до свидания.
Вот и весь наш разговор в 1931 году, летом.
Этап - первый этап в моей жизни - подходил к концу. Командировки Выя, Ветрянка и, наконец, Вижаиха - Управление 4-го отделения СЛОНа.
Этап пришел днем, и для встречи вышел сам комендант 1-го отделения Нестеров. Грузный, с иссиня выбритыми щеками, с огромными кулаками, поросшими черной шерстью. Кулаки эти заметились сразу, и не напрасно.
К Нестерову подвели поочередно тех трех беглецов, которых привел наш конвой из Соликамска (полпуда муки!).
Нестеров узнавал каждого, называл по фамилии.
- Ну, - сказал он первому.- Бежал, значит.
- Бежал, Иван Степанович.
- Ну, выбирай: плескА или в изолятор?
- ПлескА, Иван Степанович.
- Ну, держись.- Волосатым кулаком Нестеров сшиб беглеца с ног. Беглец лежал, выплевывая сломанные зубы на песок.
- Марш в барак! Следующий.
- Ну, а ты? ПлескА или в изолятор?
- ПлескА, Иван Степанович!
"Плесок" - значило пожертвовать зубами, костями, но не попасть в ШИЗО - штрафной изолятор, где пол железный, где после трех месяцев выходят только в больницу, где дневальный за малейший шорох в камере ставит на камерной двери мелом крест: лишить питания на неделю.
Притом срок пребывания в ШИЗО исключается из общего срока наказания. Поэтому все выбирали "плескА". Для самого Ивана Степановича эти сцены были развлечением, и себя он считал "отцом родным".
Через два года с этим Нестеровым ездил я в одной комиссии на Чердынский леспромхоз по поводу произвола с переселенцами-кулаками. Все они были с Кубани, леса не знали, их сгрузили тысячами прямо на снег, и они рубили себе избы по-черному. Умирали и работали на лесозаготовках. Голод. За буханку хлеба матери приводили начальству дочерей.
Вот в чердынской гостинице ужинал я с Иваном Степановичем Нестеровым. Котлет у него с собой был целый огромный баул. Мороженые котлеты ему супруга изготовила, опытная северянка. И вся наша комиссия жила этими котлетами. В эту поездку я рассмотрел очень близко знаменитые нестеровские кулаки. Кулаки, верно, были тяжелы, волосаты.
Все казалось, что я читаю хорошо знакомую книгу. И было очень трудно. Как я должен вести себя с начальством? С уркачами? С белогвардейцами? Кто мои товарищи? Где мне искать совета?
Разве можно допустить, чтобы про меня сказали что-либо нехорошее? Не в смысле лагерных установлений и правил, а некрасивый поступок любой. Как все продумать? У кого найти помощь?
Уже осенью 1929 года я знал, что все мои товарищи по университету, те, кто был в ссылке, в политизоляторе, вернулись в Москву. А я? Я пробовал писать - никакого ответа.
Я написал заявление, ничего не прося, просто: "Присоединяюсь к заявлению Раковского", которое мне казалось наиболее приличным из написанного "возвращенцами".
Вскоре меня вызвал заместитель начальника лагеря Теплов.
- Вы подавали заявление?
- Да.
- У вас есть жалобы? Просьбы?
- Никаких просьб и жалоб нет.
- Хорошо. Ваше заявление будет отправлено в Москву.
С этим заявлением я встретился в 1937 году на следствии. Заявление было просто приобщено к делу, а мне не было сообщено ничего. А я ведь ждал этого ответа.
К этому времени я твердо решился - на всю жизнь! - поступать только по своей совести. Никаких других мнений. Худо ли, хорошо ли проживу я свою жизнь, но слушать я никого не буду, ни "больших", ни "маленьких" людей. Мои ошибки будут моими ошибками, мои победы - моими победами.
Я возненавидел лицемеров. Я понял, что право приказывать дается тому, кто сам, своими руками умеет сделать все то, что он заставляет делать других. Я был нетерпелив, горяч.
Блатная романтика не привлекала меня. Честность, элементарная честность - великое достоинство. Самый главный порок - трусость. Я старался быть бесстрашным и несколько раз доказал это.
Ушли обрадованные беглецы - ведь и дело не будут заводить, вот счастье, вот золотой мужик Иван Степанович.
Дополнительного срока тогда за побег не давали. Чаще всего убивали в побеге. Но если приводили назад - ничего, кроме побоев или изолятора, беглецам не грозило.
Нас привели в новый барак, новую девятую роту сделали из нашего этапа, а командиром роты был назначен Раевский, бывший офицер.
Он несколько раз нас построил. Подрепетировал.
- Здравствуй, девятая рота!
- Здра! - И отпустил нас в барак.
Чистенький, новенький. Нары везде сплошные.
Нары вагонной системы были только в бараке лагерной обслуги в четвертой роте. Здесь была не только "вагонка" - все нары были скреплены общей проволокой, и вся система нар качалась от движения каждого, кто садился или влезал вверх. Поэтому барак четвертой роты был всегда наполнен мелодичным шумом - негромким скрипом. К этому проклятому скрипу надо было привыкать.
Огромная площадь лагеря, "зона", как ее называли в будущие годы, была окружена проволокой с караульными вышками, с тремя или четырьмя воротами, откуда выходили на работу арестанты.