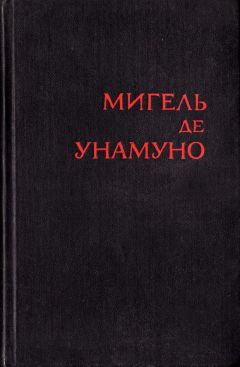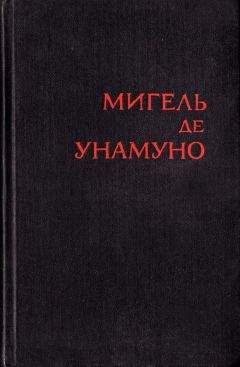Мигель де Унамуно - «Святой Мануэль Добрый, мученик» и еще три истории
Консептизм! Должен сознаться – клянусь именем Кеведо! – что в этой повестушке я попытался изложить дело как можно проще, но не сумел уберечься от кое-каких консептистских искушений и даже от случая к случаю играл словами, иной раз чтобы привлечь внимание читателя, иной раз чтобы развлечь его. Ибо консептизм весьма полезен, о невнимательный читатель. Сейчас объясню тебе чем.
Я давно уже подумываю, а не следует ли мне написать трактат «О смысле существования», в коем трактовалось бы: о смысле существования; о смысле несуществования; о бессмысленности существования и о бессмысленности несуществования – я не морочу тебе голову заумью, – в этом трактате я изложил бы все самые истрепанные и затасканные общие места, но не в той форме, в которой они успели навязнуть у всех в ушах, а со святым намерением придать им новизну. Недаром же много лет назад я привел в ужас издателей одного еженедельника, специализировавшегося на плоском тупоумии и именовавшегося «Гедеон», ибо я заявил, что переосмысление общих мест – лучший способ избавиться от их зловредности, какое заявление Наварро Ледесма воспринял не то как заумь, не то как парадокс, не то как головоломку. Так вот, для читателей разных там «Гедеонов» я и должен написать мой трактат «О смысле существования».
И если бы, взять хоть такой пример, в этом своем трактате я домудрствовался бы, по выражению одного моего приятеля, до такой идеи: «смысл несуществования в наши дни монархии в Испании не предполагает бессмысленности существования таковой в другие дни, коих в минувшие времена было немало», – то я прибег бы к сей формулировке, дабы читатель, целенаправленно внимательный, а не гедеоновский, споткнулся бы на ее нешаблонности, на этом месте, не общем, а занятом мною – или мною освоенном, – вместо того чтобы спать себе в заезженной колее общих мест и шаблонов. Ибо подобная формулировка, формулирующая то, что уже было в привычных формулах, но оформленная по-иному с формальной стороны, помогла бы сформировать интерес даже у читателя, прежде невнимательного.
При чтении «Критикона» падре Бальтасара Грасиана меня раздражало его пристрастие к словесным играм и каламбурам, но потом мне пришло на ум, что знаменитый диалог «Парменид», написанный божественным Платоном, в значительной степени есть не что иное, как непомерная – то есть не умещающаяся в общепринятые мерки – метафизическая словесная игра. И я подцепил у нашего Грасиана это его пристрастие. Так вот, Грасиан говорит где-то, что не должно принимать близко к сердцу все то, в ответ на что стоит лишь пожать плечами; я же приписываю на полях: «С той поры, как Бог посвятил меня в рыцари, коснувшись моего плеча, я должен не плечи беречь от ноши, а грудь от ударов, но притом рваться в бой грудью вперед».
Ну и хватит, а то как бы, начитавшись этих мудрствований, читатель, чего доброго, не решил, что повестушку, о которой речь, я написал не с целью развлечь его, а с какой-то другой. Нет, я писал ее с целью развлечь читателя, а не с целью привлечь его на свою сторону. Впрочем, понятие «развлечь» почти равноценно понятию «привлечь»! И тут, да позволит мне читатель – в последний раз, больше не буду! – еще одно отвлечение или развлечение лингвистического характера, а именно: ведь глаголы «навлечь», и «отвлечь», и «вовлечь» того же корня, что «влечь, волочь», и да не подумает читатель, что я намерен вовлечь его в некое суемыслие либо навлечь на него некие кары.
Я дал волю словесным играм? Спору нет, давать волю словам иной раз опасно, но все же куда опаснее давать волю рукам. Не зря говорится: «Только неуч и хам дает волю рукам». А волю словам кто дает? В «Песне о моем Сиде» Пер Вермудес, отчитывая Феррандо, одного из инфантов Каррьонских и зятя Родриго Диаса де Бивара, обращается к нему с такими словами (строки 3326–3327):
Хоть ты и пригож, да бездельник охальный!
Язык ты безрукий, да как смеешь баять?
«Язык безрукий, как ты смеешь говорить?» И Селедонио Ибаньес из моей повестушки – впрочем, может, она не столько новелита, сколько ниволета, – процитировав в беседе с Эметерио Альфонсо сии достопамятные строки из первого младенческого лепета нашей кастильской поэзии, откомментировал их так: «Да, худо будет, если безрукий язык посмеет говорить, но, может, еще хуже будет, если безъязыкие руки посмеют действовать! Ты сознаешь, Эметерио, что сие ^означает?» И Селедонио ухмылялся с подначкой, подначивая колеблющегося Эметерио. Впрочем, сам-то я вполне сознаю, что давать волю словам отнюдь не то же самое, что давать волю языку, хотя одно частенько ведет к другому.
А сейчас какой-нибудь придира читатель задается таким вопросом: с какой стати я объединил в одном томе – и тем обрек на одну и ту же участь – три истории, тогда как во всех трех случаях источники вдохновения с виду столь различны? Что побудило меня собрать их вместе?
Разумеется, они были зачаты, выношены и рождены на свет одна за другою, почти без интервалов, – словом, все три почти что одного помета. Роднит ли их некая присущая всем трем подоснова? Не пребывал ли я в каком-то особом умонастроении? Задумавшись над этим задним числом, или a posteriori, я осознал (так мне показалось), что как дона Мануэля Доброго и Ласаро Карбальино, так и дона Сандальо, шахматиста, и повествующего о нем автора писем к Фелипе; как Эметерио Альфонсо и Селедонио Ибаньеса, так даже и самое Роситу неотступно донимала пугающая проблема личности: являешься ли ты тем, кем являешься, и пребудешь ли впредь тем, кем являешься сейчас?
Разумеется, тут дело не в том, что, когда я сочинял эти три повестушки (написанные меньше чем за три месяца), я пребывал в каком-то особом умонастроении; нет, дело в общем умонастроении, в котором я, говоря по правде, пребываю с тех пор, как начал писать. Эта проблема осознания собственной личности – вернее сказать, мучительная тревога, вызванная ее осознанием, в одних случаях трагическая, в других комическая, – и вдохновила меня на создание почти всех моих воображаемых персонажей. Дон Мануэль Добрый стремится, готовясь к смерти, растворить, а верней, спасти свою личность в той, которую составляют люди его селения; дон Сандальо свою неведомую личность утаивает, а что касается бедного человека Эметерио, тот хочет сберечь свою для себя, накопительски, а в итоге его использует в своих целях другая личность.
И в сущности, разве не эта же мучительно-тревожная и почетная проблема личности побуждает к действию Дон Кихота, который сказал о себе: «Я знаю, кто я такой!» – и возжелал спасти свою личность, вознеся ее на крыла нетленной славы? И разве не проблема личности мучительно растревожила принца Сехисмундо, разве не из-за нее привиделся он самому себе принцем в том сне, который есть жизнь?
На днях я как раз дочитал сочинение моего любимого Серена Кьеркегора «Или – или» («Enten – eller»), чтение которого прервал несколько лет назад – еще до моего изгнания; и в разделе под названием «Равновесие между эстетическим и этическим началом в развитии личности» я наткнулся на один пассаж, задевший меня за живое, он придется здесь как нельзя более к месту – ни дать ни взять уключина, удерживающая весло (понимай, перо), коим я гребу, дабы доплыть до конца своей писанины. Пассаж этот гласит: «Было бы величайшей шуткой над миром, если бы тот, кто высказал бы глубочайшую истину, оказался не мечтателем, а сомневающимся. И вполне допустимо, что никому не высказать позитивной истины лучше, чем тому, кто во всем сомневается, но только сам он в эту истину не верит. Будь он обманщиком, шутка была бы всего лишь его шуткой; но поскольку он – сомневающийся, а хотел бы верить в то, что излагает, шутка оказалась бы совершенно объективной, его устами шутило бы само существование, он изложил бы учение, которое могло бы все прояснить, послужило бы основой, на которой покоился бы весь мир; но учение это не могло бы ничего объяснить своему создателю. Если бы нашелся безумец, рассудительный как раз настолько, чтобы скрыть собственное безумие, он мог бы свести с ума весь мир».
И тут уж не хочу больше рассуждать ни о мученичестве Дон Кихота, ни о мученичестве дона Мануэля Доброго, а были они оба мучениками донкихотского склада.
И с Богом, читатель, и до новой встречи, и да будет Ему благоугодно, чтобы ты обрел себя самого.
Мадрид, 1932
* * *Мысленно я уже поставил точку на этом прологе, считая, что дописал его, но тут кто-то из домашних извлек на свет Божий из не очень-то аккуратного вороха моих публикаций в периодике, из хранилища печатных текстов одну повестушку, о которой я было позабыл и которая, под названием «Одна любовная история», появилась в «Эль Куэнто Семаналь» от 22 декабря 1911 года – двадцать два года тому назад.
Я настолько забыл про нее, что, когда снова увидел, припомнил разве что гравюры, ее иллюстрировавшие – не Бог весть как удачно, – да имя героини: Лидувина. И мне не захотелось ее перечитывать. Чего ради? Но я все же решил добавить ее к трем остальным – пускай составят все вместе четверню. Предпочитаю отдать ее в печать, не перечитывая и не исправляя, а то как бы мне не взбрело в голову ее комментировать, это по прошествии-то двух десятков лет с хвостиком. В печать ее, и баста. В корректуру и в ту не загляну.