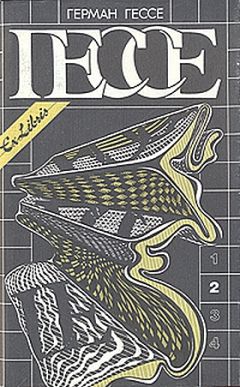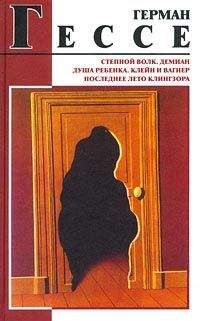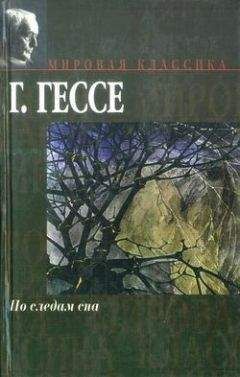Герман Гессе - Герман Гессе Последнее лето Клингзора
Луи окинул его медленным взглядом насмешливых.
— Не задирай нос, малый!
— Вместе с приехавшей красавицей бродили они по округе. Видеть оба были мастера, это они умели. В окрестностях нескольких городков и деревень они видели Рим, видели Японию, видели море у экватора и сами же, играя, рассеивали эти иллюзии; их прихоть зажигала звезды на небе и тут же гасила их. В роскошные ночные небеса пускали они свои фейерверки; мир был мыльным пузырем, оперой, веселой чепухой.
Луи птицей носился по холмам на своем велосипеде, бывал в разных местах, а Клингзор писал. Какими–то днями Клингзор жертвовал, потом снова ожесточенно сидел на воздухе и работал. Луи не захотел работать. Луи внезапно уехал вместе со своей приятельницей, прислал открытку откуда–то издалека. Вдруг он опять появился, когда Клингзор поставил уже на нем крест, встал в дверях в соломенной шляпе и открытой рубашке, словно никуда не исчезал.
Еще раз попил Клингзор из сладчайшей чаши своей молодости вино дружбы. Много было у него друзей, многие любили его, многих он одаривал, многим открывал свое быстрое сердце, но только двое из друзей слышали из его уст и в то лето прежний зов сердца: художник Луи и поэт Герман, по прозвищу Ту Фу.
В иные дни Луи сидел в поле на своем складном стульчике, или в тени груши, или в тени сливы и не работал. Он сидел и думал и, прикрепив бумагу к палитре, писал, много писал, писал множество писем. Счастливы ли люди, которые пишут так много писем? Он писал напряженно, Луи Беззаботный, его взгляд был часами мучительно прикован к бумаге. Многое, о чем он молчал, не давало ему покоя. Клингзор любил его за это.
Иначе вел себя Клингзор. Он не умел молчать. Он не мог скрывать того, что у него на сердце. В тайные беды своей жизни, о которых мало кто знал, он самых близких все–таки посвящал. Он часто страдал от страха, от тоски, часто проваливался в яму мрака, порой тени из прежней его. жизни падали, разросшись, на его дни и делали их черными. Тогда для него было облегчением увидеть лицо Луиджи. Тогда он, случалось, жаловался ему.
А Луи не любил этих приступов слабости. Они мучили его, они требовали сочувствия. Клингзор привык изливать душу другу и слишком поздно понял, что из–за этого теряет.
Луи снова заговорил об отъезде. Клингзор знал, что задержит его на сколько–то дней, на три дня, на пять дней; но внезапно Луи покажет ему уложенный чемодан и уедет, чтобы опять долго не появляться. Как коротка была жизнь, как безвозвратно все было! Единственного из своих друзей, который целиком понимал его искусство, единственного, чье искусство было близко и по плечу его собственному, он испугал и обременил, расстроил и охладил всего лишь из–за глупой слабости и распущенности, из–за детской, неприличной потребности не стесняться друга, ничего от него не утаивать, не держать себя в руках при нем. Какая это была глупость, какое ребячество! Так корил себя Клингзор, слишком поздно.
В последний день они вместе бродили по золотым долинам, Луи был в очень хорошем расположении духа, отъезд был истинной радостью для его сердца птицы. Клингзор держался соответственно, они снова нашли прежний, легкий, игривый и насмешливый тон и больше не теряли его.
Вечером они сидели в саду трактира. Они попросили зажарить рыбу, сварить рис с грибами и запивали персики мараскином.
— Куда ты поедешь завтра? — спросил Клингзор.
— К той красавице?
— Да. Может быть. Кто это знает? Не расспрашивай меня. Давай–ка сейчас, под конец, выпьем еще хорошего белого вина. Я за «Невшатель».
Они выпили; вдруг Луи воскликнул:
— Хорошо, что я хоть уеду, старый тюлень. Когда я иной раз сижу рядом с тобой, вот так, как сейчас, например, мне вдруг приходят в голову какие–то глупости. Мне приходит в голову, что вот здесь сидят те два художника, которые только и есть у нашего славного отечества, и тогда у меня появляется отвратное ощущение в коленях — словно мы оба из бронзы и должны стоять, взявшись за руки, на пьедестале, понимаешь, как Гете и Шиллер. Они же тоже не виноваты, что должны вечно стоять, держа друг друга за бронзовые руки, и что постепенно стали нам так неприятны и ненавистны. Может быть, они были отличные ребята, милейшие парни, я как–то прочел одну пьесу Шиллера, это было совсем недурно. И все же так вышло, что он сделался знаменитостью и должен стоять рядом со своим сиамским близнецом, две гипсовые головы рядом, и везде видишь их собрания сочинений, и их проходят в школах. Это ужасно. Представь себе, через сто лет какой–нибудь профессор будет вещать гимназистам: Клингзор, родился в 1877 году, и его современник Луи, прозванный Обжорой, новаторы живописи, освобождение от натурализма цвета, при ближайшем рассмотрении эта пара распадается на три четко различимых периода! Уж лучше прямо сегодня под паровоз.
— Разумнее бы отправить туда профессоров.
— Таких больших паровозов не бывает. Ты же знаешь, как мелкотравчата наша техника.
Уже появились звезды. Вдруг Луи стукнул стаканом о стакан друга.
— Ну вот, чокнемся и выпьем. А потом я сяду на свой велосипед и adieu. Без долгого прощания! Хозяину заплачено. Будем здоровы, Клингзор!
Они чокнулись и выпили, в саду Луи вскочил на велосипед, помахал шляпой, исчез. Ночь. Звезды. Луи был в Китае. Луи был легендой.
Клингзор грустно улыбнулся. Как он любил эту перелетную птицу! Он долго стоял в усыпанном гравием саду трактира, глядя вниз на пустую улицу.
День КареноВместо с друзьями из Варенго, а также с Агосто и Эрсилией Клингзор отправился пешком в Карено. Утром, сквозь душистую таволгу, мимо дрожащих, еще покрытых росой паутинок на опушках, они спустились через обрывистый лес в долину Пампвмбьо, где у желтой дороги, оглушенные летним днем, полумертвые, спали, наклонившись вперед, яркие желтые дома, а у высохшего ручья белые металлические ивы нависали тяжелыми крыльями над золотыми лугами. Красочно плыл караван друзей по розовой дороге сквозь подернутую дымкой тумана зелень долины: белые и желтые в полотне и шелке мужчины, белые и розовые женщины, и великолепный, цвета «аероневе», зонтик Эрсилии сверкал как драгоценный камень в волшебном кольце.
Доктор меланхолически сетовал доброжелательвым голосом:
— Ужасно жаль, Клингзор, через десять лет все ваши чудесные акварели выцветут; все эти ваши излюбленные краски нестойки.
Клингзор:
— Да, и хуже того: ваши прекрасные каштановые волосы, доктор, будут через десять лет сплошь седыми, а чуть позже наши милые веселые кости будут лежать где–нибудь в яме, в земле, — к сожалению, и ваши тоже, Эрсилия такие прекрасные и здоровые кости. Ребята, давайте не будем благоразумны под конец жизни. Герман, что говорит Ли Тай Пе?
Герман, поэт, остановился и прочел:
Жизнь проходит, как
Блеск его нельзя увидеть – он слишком короток,
Вечно стоят неподвижно земля и небо,
Но как быстро летит, изменяясь, время по лику людей.
Зачем же за полной чашей сидишь и не пьешь,
Кого еще ждешь ты, скажи?
— Нет, — сказал Клингзор, — я имел в виду другие стихи, с рифмами, о кудрях, которые еще утром были темные.
Герман тут же прочел эти стихи:
Утром кудри, словно черный шелк, блестели,
Вечером они белеют сединой.
Чтобы не страдать, пока есть силы в теле,
Чашу поднимай и чокайся с луной.
Клингзор громко рассмеялся своим хриплым голосом:
— Молодец Ли Тай Пе! Он кое о чем догадывался, он многое знал. Мы тоже многое знаем, он наш старый умный брат. Этот упоительный день ему бы понравился, это как раз такой день. на исходе которого хорошо умереть смертью Ли Тай Пе, в лодке на тихой реке. Увидите, сегодня все будет чудесно.
— Что же это за смерть, которой умер на реке Ли Тай Пе? — спросила художница.
Но Эрсилия перебила, вмешавшись своим добрым грудным голосом:
— Нет, перестаньте! Кто скажет еще хоть слово о смерти. того я больше не люблю. Перестань, противный, Клингзор!
Клингзор, смеясь, подошел к ней.
— Как вы правы, ЬатЫпа!3 Если я скажу еще хоть слово о смерти, можете выколоть мне своим зонтиком оба глаза. Но в самом деле, сегодня чудесно, дорогие! Сегодня поет птица, это сказочная птица, я уже слышал ее утром. Сегодня дует ветерок, этот сказочный ветерок, это неба сынок, он будит спящих принцесс и вытряхивает ум из голов. Сегодня цветет цветок, это сказочный цветок, он синий и цветет один раз в жизни, и кто его сорвет, тот блажен.
— Он хочет что–то этим сказать? — спросила Эрсилия доктора. Клингзор услышал ее вопрос.
— Я хочу сказать вот что: этот день никогда не вернется, и кто его не вкусит, не выпьет, не насладится его вкусом и благоуханием, тому его во веки веков не предложат второй раз. Никогда солнце не будет светить так, как сегодня, оно находится на небе в определенном положении, в определенной связи с Юпитером, со мной, с Агосто, с Эрсилией и со всеми, в связи, которая никогда, и через тысячу лет, не повторится. Поэтому я хочу сейчас — ибо это приносит счастье — идти некоторое время слева от вас и нести ваш изумрудный зонтик, в свете которого моя голова будет походить на опал. Но и вы тоже должны участвовать, должны спеть песню, что–нибудь из ваших лучших.