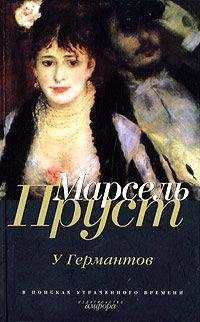Марсель Пруст - Обретенное время
Робер заметно черствел, и теперь почти не проявлял в общении с друзьями, со мной в частности, каких-либо чувств. Зато на Жильберте он вымещал чувственность аффектированную и отталкивающе комичную. Не то чтобы она на самом деле была ему безразлична. Нет, Робер любил ее. Но он постоянно ей лгал; двойственная его натура, если не сама причина этой лжи, постоянно вылезала наружу, и тогда ему казалось, что можно выкрутиться, до смешного преувеличивая свою подлинную грусть, которую он испытывал, причиняя страдания Жильберте. Робер только приехал в Тансонвиль и уже уезжал следующим утром, у него было дело, по его словам, с одним здешним господином, который ждет его на месте, — но последний, повстречавшись вечером с четою в окрестностях Комбре, невольно опровергал выдумку Робера, о которой тот не потрудился ему сообщить, рассказывал, что приехал отдохнуть в деревню на месяц, и не собирается возвращаться в Париж раньше этого срока. Робер краснел, заметив чуткую и печальную улыбку Жильберты, нагрубив, отделывался от недотепы, и, оставив ее, бежал домой, передавал ей отчаянную записку, где говорилось, что он солгал, чтобы не огорчить ее, чтобы из-за его отъезда — по некоторой причине, о которой он не может ей рассказать, — она не подумала, что он ее разлюбил (все это, хотя и было им описано как ложь, в действительности было правдой), затем посылал спросить, можно ли зайти к ней, и там отчасти в настоящей тоске, отчасти устав от этакой жизни, отчасти — от все более и более дерзкого притворства, рыдал, покрываясь холодным потом, говорил о своей близкой кончине, иногда даже падал на паркет, будто чувствовал себя очень плохо. Жильберта не понимала, насколько ему можно верить, ей казалось, что он врет постоянно, но думала также, что он ее все-таки любит, и ее беспокоили эти предчувствия грядущей гибели; сдавалось ей, у него какой-то недуг, о котором она ничего не знает, и потому, чтобы не расстроить его, она не требовала отказаться от этих поездок. И я тем меньше понимал, почему Мореля, как домашнее дитя, принимали вместе с Берготом везде, где была чета Сен-Лу — в Париже, Тансонвиле. Морель подражал Берготу превосходно. По прошествии некоторого времени уже не было нужды просить его «поподражать еще». Подобно тем истерикам, которых вовсе не обязательно подвергать гипнозу, чтобы они перевоплотились в того или иного человека, он неожиданно стал <...>[5]
Франсуаза знала обо всем, что де Шарлю сделал для Жюпьена, что Робер де Сен-Лу сделал для Мореля, и она не выводила из этого каких-либо заключений о той характерной особенности, что снова и снова проявлялась в коленах Германтов — ведь и Легранден немало помог Теодору, — и, в конце концов, женщина столь моральная и так сильно укоренившаяся в своих предрассудках, она решила, что это своего рода повсеместный обычай, и потому отказать ему в уважении невозможно. Она по-прежнему отзывалась о каком-нибудь молодом человеке — вроде Мореля или Теодора: «Он встретил господина, который сильно им заинтересовался и очень помог». И так как в этих случаях покровители — это те, кто любит, страдает и прощает все, Франсуаза без колебаний отводила им лучшую роль в отношениях между ними и «малышами», которых они развращали, приписывая первым «большое сердце». Она безоговорочно осуждала Теодора, вдоволь попортившего кровь Леграндену и, казалось, почти не сомневалась в природе их отношений: «Тут парень сообразил, что пора бы и ему внести свою лепту и так говорит: „Возьмите меня с собой, я буду вас так любить, я так вам угожу“, — и само понятно, у мсье такое сердце, что, конечно, Теодор может и не сомневаться, что получит намного больше, чем он сам того стоит, потому что ведь голова-то у него бедовая, — но зато мсье-то такой хороший! Я так и говорю Жанетте (невесте Теодора): «Малышка, если что стрясется, бегите сразу к нему. Он лучше на полу спать ляжет, а вас положит на своей кровати. Он слишком любит малыша (Теодора), чтобы прогнать. Конечно, он не покинет его никогда"». (Из вежливости я спросил у сестры Теодора о его фамилии, — сам он жил теперь на юге. «Так это он написал письмо о моей статье в Фигаро!» — воскликнул я, узнав, что его фамилия Санилон[6].)
И по этой причине Сен-Лу внушал ей большее уважение, нежели Морель; она считала, что несмотря на все треволнения, которые довелось ему пережить из-за «малыша» (Мореля), маркиз всегда придет к нему на помощь, потому что у него «сердце золотое», — либо же с самим Сен-Лу должны произойти какие-то грандиозные перемены.
Он просил меня задержаться в Тансонвиле, оборонив на ходу, хотя теперь явно не старался сказать мне что-то приятное, что своим приездом я очень обрадовал его жену — по ее словам, в тот вечер она была вне себя от счастья; в тот вечер, когда она была так грустна, что, явившись нежданно, я чудом спас ее от отчаяния, «а может быть и худшего», — добавил Робер. Он просил меня внушить ей, что он ее любит, тогда как женщину, любимую им помимо того, он любит меньше, и скоро вообще с ней разорвет. «И все-таки, — добавил он с таким самодовольством и нуждой излить душу, что на мгновение мне почудилось, будто имя Чарли[7], против воли Робера, вот-вот «выпадет», как номер в лотерее, — мне есть чем гордиться. Женщина, которую я принесу в жертву Жильберте, доказала мне исключительную преданность и никогда не уделяла внимания другим мужчинам, — она даже не верила, что способна в кого-нибудь влюбиться. Я первый. Я знал, что она отказывает всем подряд, и едва поверил, когда получил ее прелестное письмо, в котором она писала, что только я составлю ее счастье. Да, все это просто пьянит… хотя, чего уж скрывать, слезы несчастной Жильберточки разрывают мое сердце. Ты не находишь, что в ней что-то есть от Рашели?» Меня и правда поражало неопределенное сходство между ними, которое, по крайней мере теперь, можно было заметить. Может быть, эта похожесть объяснялась какими-то общими чертами (обусловленными, в частности, еврейскими корнями той и другой, хотя они слабо проявились в Жильберте), из-за чего Робер, когда его семья хотела, чтобы он женился, из вариантов материально равноценных выбрал Жильберту. Схожесть проистекала оттого также, что Жильберта, заполучив фотографии Рашели, даже имени которой она не знала, старалась подражать некоторым привычкам актрисы, чтобы понравиться Роберу — так, в частности, постоянным красным бантам в волосах, черной бархотке на руке, и еще она выкрасила волосы, чтобы казаться брюнеткой. Чувствуя, что огорчения портят лицо, она решила исправить и это. Подчас она не знала меры. Однажды вечером в Тансонвиль, на сутки, должен был приехать Робер, и в облике Жильберты, вышедшей к столу, что-то крайне меня поразило, — я заметил, что она очень сильно отличается не только от той Жильберты, какой она была раньше, но и от себя сегодняшней, — и застыл, изумленный, словно предо мной сидела актриса, разновидность Феодоры[8]. Вопреки своей воле, из любопытства узнать, что же она изменила, я слишком пристально ее разглядывал. Впрочем, этот интерес вскоре был удовлетворен: несмотря на предпринятые меры предосторожности, ей пришлось высморкаться. На платке осталась богатая гамма — Жильберта, если судить по этой палитре, была изрядно накрашена. Вот отчего заливался кровью ее рот, вот почему она веселилась, думая, что это ее красит, в тот час, когда к Тансонвилю подходил поезд и Жильберта не знала, действительно ли приедет ее муж, или же она получит одну из тех телеграмм, эталон коих, не без остроумия, был определен еще герцогом де Германтом: «ПРИЕХАТЬ НЕВОЗМОЖНО ПРЕСЕКАЮ ЛОЖЬ», — вот отчего бледнели ее щеки, покрытые фиолетовой испариной грима, чернели ввалившиеся глаза.
«Видишь ли, — сказал он нарочито мягко, тоном, так ярко контрастировавшим с его мягкостью прежней, спонтанной, голосом алкоголика с модуляциями актера, — для счастья Жильберты я готов на все. Я стольким ей обязан. Ты не представляешь». Сильнее всего отталкивало его самолюбие — любовь Жильберты льстила ему, а о своей любви к Чарли он говорить не осмеливался и изыскивал в чувстве, которое скрипач якобы питал к нему, какие-то детали, несколько преувеличенные, а то и выдуманные целиком, — как было известно и самому Сен-Лу, у которого Чарли, что ни день, просил больше денег. Поэтому-то, оставив на меня Жильберту, он возвращался в Париж. Как-то раз (забегу немного вперед, потому что я еще в Тансонвиле) мне довелось увидеть его со стороны, и его речь, вопреки всему обворожительная и живая, напомнила мне былое; меня поразило, как сильно он изменился. Он все больше напоминал свою мать, унаследовав от нее высокомерную изысканность обхождения; прекрасное воспитание выпестовало это свойство и оно будто застыло; он словно бы инспектировал место, в котором оказался, своим пронзительным взглядом — присущим и другим Германтам, но у него это проявилось неосознанно, инстинктивно и по привычке; стоило замереть, и окраска, что отличала его от других Германтов, словно окаменевший луч золотого дня, придавала ему странное оперение, превращая в редкую и драгоценную породу, внушая желание приобщить к какой-нибудь орнитологической коллекции; и когда этот свет, превращенный в птицу, начинал двигаться, действовать, как, например, на том приеме, где я оказался вместе с Робером де Сен-Лу, он столь радостно и гордо вскидывал голову — хохлатую, под золотым хохолком слегка ощипанных волос, а движения его шеи были настолько гибче, высокомерней, кокетливей, чем это бывает у людей, что из любопытства и восхищения, внушаемого им, отчасти светского, отчасти зоологического, уместно было задаться вопросом, находимся ли мы в Сен-Жерменском предместье или в Зоологическом саду, наблюдаем ли пересечение гостиной или прогулку по клетке, знатного барина или птицы. Немного фантазии, и щебет подошел бы к этому толкованию не меньше, чем пух. Он декламировал фразы, казавшиеся ему «гранд сьекль"[9], подражая в этом манерам Германтов. Но нечто необъяснимое превращало их в манеры де Шарлю.