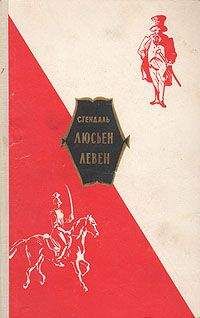Стендаль - Красное и черное
В семинарии готовятся духовные пастыри этого скопища рвачей. Здесь шпионство считается доблестью, лицемерие — мудростью, рабская услужливость — высшей добродетелью. За отказ от самостоятельной мысли и холопское преклонение перед церковными авторитетами будущих кюре ждет награда — богатый приход с доброй десятиной, с пожертвованиями битой птицей и горшками масла, которыми завалит своего духовника преданная паства. Так, обещая небесное спасение и сытость на земле, иезуиты готовят слепых в своем послушании служителей церкви, призванных обеспечить устойчивость трона и алтаря.
После выучки в семинарских классах Сорель волею случая проникает в высший парижский свет. В аристократических салонах не принято считать прибыль и рассуждать о плотном обеде, но и здесь царит дух лицемерного уважения к издавна заведенным, утратившим свой смысл обычаям. В глазах завсегдатаев особняка де Ла-Моль вольномыслие опасно, сила характера — опасна, несоблюдение светских приличий — опасно, критическое суждение о церкви и короле — опасно; опасно все, что покушается на традиции, порядок, привилегии, освященные стариной. Среди пожилых аристократов — у них за плечами годы изгнания и придворных интриг — еще встречаются личности по-своему незаурядные, хитроумные и проницательные, вроде старшего де Ла-Моля. Однако, когда историческая судьба хочет кого-то покарать, она лишает его не только ума, но и достойного потомства: светская молодежь, вымуштрованная тиранией ходячих мнений, остроумна, вежлива, элегантна, но зато в высшей степени безмозгла и безлика.
Правда, когда речь идет о защите их касты, среди аристократических посредственностей находятся деятели, злоба и подлость которых могут оказаться угрозой для всей нации. На собрании ультрароялистов-заговорщиков, куда Сорель попадает в качестве секретаря своего вельможного покровителя, разрабатываются планы иностранного вторжения во Францию, финансируемого из-за границы и поддерживаемого изнутри наемниками дворян-землевладельцев и князей церкви. Цель этой затеи — окончательно принудить к молчанию всех несогласных, «подрывателей» основ и «подстрекателей», искоренить остатки «якобинства» в умах, сделать страну поголовно благомыслящей и покорной. В разгар словопрений и склоки этих трусливых мужей, опасающихся даже соседа, но протягивающих все-таки друг другу руки из еще большего страха перед общим врагом — народом, один из них в припадке раздражения выбалтывает суть вожделений, которые, в пору распространения освободительных идей, толкают на заговоры уже не низы, а самые верхи: «Установим, кого надо раздавить. С одной стороны журналисты, избиратели, короче говоря, общественное мнение; молодежь и все, кто ею восхищаются. Пока они себе кружат головы собственным пустословием, мы господа, пользуемся преимуществом: мы распоряжаемся бюджетом».
Пожиратели национального дохода и власть предержащие, которые конспирируют против своих подданных, — печальный парадокс, позволяющий ощутить пророческую зоркость Стендаля: подобные «бешеные» нечасто встречались прежде, зато ими в избытке заселена новая и новейшая история.
В эпизоде заговора, проведя Сореля через разные круги пыток оскорбленной гордости, которыми тот расплачивается за свое восхождение по лестнице успеха, Стендаль увенчивает пирамиду Реставрации корыстью, граничащей с предательством родины. Пресмыкательство перед всеми вышестоящими и разнузданное стяжательство в провинции, воспитание армии священников в духе воинствующего мракобесия как залог прочности режима, иноземные войска как самое надежное орудие расправы с инакомыслящими — такова эта монархия-пережиток, с хроникальной точностью запечатленная на страницах «Красного и черного».
И как бы подчеркивая черные тени этой картины еще рельефнее, Стендаль бросает на нее багряно-красные отсветы былого — памятных грозовых времен: Революции и Империи. Страх вернувшихся домой под прикрытием чужих штыков дворян заселяет это прошлое злобными призраками. Наоборот, для Стендаля, как и для его детища Сореля, прошлое — героический миф, в котором простые французы, затравленные белым террором и доносами святош, находят подтверждение своему недавнему величию и залог грядущего возрождения. Так обозначаются масштабы историко-философского раздумья в «Красном и черном»: почти полувековые судьбы страны получают в резком сопоставлении эпох, проходящем через всю книгу, памфлетно острое и сжатое воплощение.
Да и личная судьба самого Жюльена Сореля сложилась в тесной зависимости от произошедшей во Франции смены исторической погоды.
Из прошлого он заимствует свой кодекс чести, настоящее обрекает его на бесчестие. Он «создан из того же материала», что и волонтеры Республики, отстоявшие от врагов революцию конца XVIII века. Но этот «человек 93 года» опоздал родиться. Миновала пора, когда положение завоевывали личной доблестью, отвагой, напористостью, умом. Ныне плебею для борьбы за счастье предлагается только то оружие, которое по ходу у застигнутых безвременьем: лицемерие, религиозное ханжество, расчетливое благочестие. И юноша, одержимый мечтой о славе, поставлен перед выбором: либо сгинуть в безвестности, либо примениться к своему веку, «надев мундир по времени» — черную сутану священника. Он подлаживается к уровню провинциальных мещан, в семинарии скрывает свои мысли за постной маской смиренного послушника, угождает своим высокородным хозяевам в Париже. Он отворачивается от друзей и служит тем, кого в душе презирает; безбожник, он прикидывается святошей; поклонник якобинцев — пытается проникнуть в круг аристократов; будучи наделен острым умом — поддакивает глупцам. Поняв, что «каждый за себя в этой пустыне эгоизма, именуемой жизнью», он ринулся в схватку в надежде победить навязанным ему оружием.
Однако было бы заблуждением свести «Красное и черное» к истории заурядного карьериста, стремящегося к богатству и славе. Встав на путь приспособления, Жюльен не сделался приспособленцем; избрав способы «погони за счастьем», принятые всеми вокруг, он не принял их морали. Само его лицемерие — не униженная покорность, оно — презрительный и дерзкий вызов обществу, сопровождаемый отказом признать право этого общества на уважение и тем более его претензии диктовать человеку нравственные нормы и принципы поведения. Официальные круги — враг, подлый, коварный, мстительный. Пользуясь их благосклонностью, Сорель, однако, не знает за собой духовных долгов перед ними, поскольку, даже обласкивая одаренного юношу, в нем видят не личность, а расторопного слугу.
У Сореля есть свой собственный, независимый от господствующих предписаний свод заповедей, и только им он повинуется неукоснительно. Свод этот несет на себе отпечаток запросов плебея-карьериста, но он предписывает ясную мысль, не ослепленную предрассудками и холуйским трепетом перед чинами, а главное — смелость, энергию в достижении своих целей, неприязнь ко всякой трусости и душевной дряблости как в окружающих, так и особенно в самом себе. И пусть Жюльен вынужден сражаться на незримых комнатных баррикадах, пусть он ходит на приступ не со шпагой в руке, а с лицемерными речами на устах, пусть его подвиги в стане неприятеля никому, кроме него самого, не нужны, — для Стендаля его геройство, искаженное и поставленное на службу сугубо личному честолюбию, все же в чем-то сродни гражданским доблестям, присущим некогда санкюлотам-якобинцам и демократическим низам наполеоновского войска. Недаром, став очевидцем «трех славных дней» революции 1830 года, Стендаль сожалел, что роман его уже близится к завершению, — случись эти уличные бои раньше, он, пожалуй, нашел бы более достойное поприще для своего Сореля. В бунте последнего немало наносного, но в нем нельзя не различить здоровую в своих истоках попытку сбросить социальные и нравственные оковы, обрекающие простолюдина на прозябание. И Сорель ничуть не заблуждается, когда, подводя черту под своей жизнью в заключительном слове на суде, расценивает смертный приговор как классовую месть правящих собственников, которые карают в его лице всех молодых мятежников из народа, восстающих против своего удела.
Естественно, что вторая, бунтарская сторона натуры Жюльена Сореля не может мирно ужиться с его намерением сделать карьеру лицемерного святоши. Он способен ко многому себя принудить, но учинить до конца это насилие над собой ему не дано. Для него становятся чудовищной мукой семинарские упражнения в аскетическом благочестии. Ему приходится напрягаться из последних сил, чтобы не выдать насмешливого и гневного презрения к аристократическим манекенам в парижских салонах. «В этом существе почти ежедневно бушевала буря», замечает Стендаль, и вся духовная история стендалевского честолюбца соткана из приливов и отливов неистовых страстей, которые разбиваются о плотину неумолимого «надо», диктуемого разумом и осторожностью. В этой раздвоенности, в конечной неспособности подавить в себе гордость, врожденную честность, и кроется причина того, что грехопадению, которое поначалу кажется самому Сорелю возвышением, не суждено свершиться вполне. В сущности, при его уме не так уж сложно выбраться из ловушки, куда он попал после письма, разрушающего надежды на блистательный брак. Да и будь он просто выжигой, он мог бы спокойна принять предложенные ему «отступные». Ума-то на это хватило бы, а вот низости — нет. Совесть запрещает стерпеть незаслуженное оскорбление, совесть не позволяет преодолеть то расстояние между воспитанником ветерана Франции героической и преуспевшим карьеристом Франции оскудевшей, которое Сорель покрыл было благодаря своей толковости. «Красное и черное» — не просто история краха беззастенчивого ловца удачи, но прежде всего трагедия несовместимости в пору безвременья мечты о счастье со служением подлинному делу, трагедия героического по своим задаткам характера, которому не дали состояться.