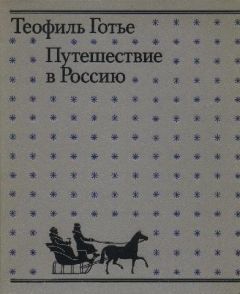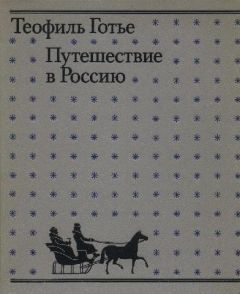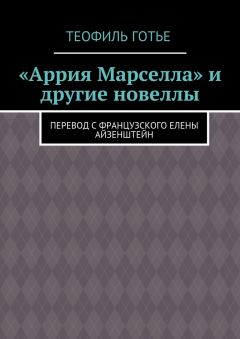Теофиль Готье - Мадемуазель де Мопен
Мне кажется, не стоит поднимать такой переполох из-за пустяков. На наше счастье, времена белокурой Евы канули в прошлое, и при всем желании мы не можем остаться так же примитивны и патриархальны, как обитатели ковчега. Мы не девочки, собирающиеся к первому причастию, и когда во время игры в рифмы вас просят срифмовать корзинку, не говорим в ответ: «Кремовый торт». К нашему простодушию примешивается изрядная доля учености, а невинность наша давно уже таскается по городу; кое-что дается человеку только единожды, и что бы мы потом ни делали, утраченного не воротишь, ибо ничто на свете не исчезает так быстро, как утраченная невинность и утраченные иллюзии.
В конечном счете все это не так уж страшно, и разносторонние познания все-таки предпочтительней полного невежества. Пускай об этом спорят те, кто поученей меня. Так или иначе, мы уже миновали возраст, в коем позволительно строить из себя целомудренных скромников, и, по-моему, старым хрычам нелепо прикидываться юными и девственными.
С тех пор как общество сочеталось брачными узами с цивилизацией, оно лишилось права на избыток застенчивости и простодушия. Бывает такой румянец, который весьма кстати, когда новобрачная удаляется в спальню, но наутро он уже неуместен, потому что молодая женщина, быть может, уже забыла девушку, которою была накануне, а если не забыла, то это весьма неблаговидное обстоятельство может серьезно повредить репутации мужа.
Когда я случайно прочитываю одну из тех превосходных проповедей, что заняли ныне в печати место литературной критики, мне порой становится очень стыдно и очень тревожно, поскольку у меня на совести есть несколько чересчур приперченных острот, какие может поставить себе в укор всякий пылкий и увлекающийся молодой человек.
Рядом с этим Боссюэ из «Кафе де Пари», этими Бурдалу с оперной галерки, с этими Катонами по столько-то за строчку, которые с таким искусством ругают на все корки нынешний век, я в самом деле сознаю себя самым чудовищным злодеем, какой только пятнал своим присутствием лицо земли, а между тем, видит Бог, список моих грехов, как смертных, так и простительных, включая необходимые пробелы и междустрочия, насилу заполнит в руках умелого книгоиздателя один-два томика ин-октаво в день — сущие пустяки для человека, не притязающего в мире ином на райские кущи, а в этом — на Монтионовскую премию или награду за девичью добродетель.
А потом я вспоминаю, что под столом, да и в других местах, встречал довольно многих из этих бдительных стражей добродетели, и начинаю думать о себе лучше; и в голову мне приходит мысль, что, какими бы недостатками я ни обладал, — эти люди также страдают одним изъяном, хуже и гаже которого, по-моему, не бывает: я разумею лицемерие.
А если хорошенько присмотреться, водится за ними и еще один грешок, причем такой омерзительный, что я насилу осмеливаюсь его назвать. Подойдите ближе, и я шепну вам на ушко: это зависть.
Зависть и ничто иное.
Это она, ползучая, извивающаяся, пронизывает все их отеческие проповеди; и как она ни прячется, но из-под метафор и риторических фигур то и дело проблескивает ее плоская гадючья головка; иногда удается даже приметить, как она облизывает раздвоенным язычком свои синеющие от яда губы; и слышно, как она тихонько посвистывает, укрывшись в тени лукавого эпитета.
Я сознаю, что утверждать, будто вам завидуют, — несносное самодовольство, почти столь же тошнотворное, как чванство щеголя, пускающего пыль в глаза своим богатством. Не такой уж я бахвал, чтобы приписывать себе врагов и завистников. Это счастье дается не каждому, и мне, по всей видимости, еще долго его не видать; а потому я буду говорить откровенно и без задней мысли, как человек, в данном вопросе совершенно бескорыстный.
Естественная неприязнь критика к поэту есть непреложный факт, который легко доказать сомневающимся; это неприязнь бездельника к тому, кто делает дело, трутня — к пчеле, мерина — к жеребцу.
Вы становитесь критиком не раньше, чем окончательно убедитесь, что не можете быть поэтом. Прежде чем смириться с унылой ролью маркера в биллиардной или зале для игры в мяч, стерегущего пальто и ведущего счет очкам, вы долго ухаживали за музой и пытались лишить ее невинности; но на это у вас недостало силенок, и вот вы, побледнев и задохнувшись, рухнули в изнеможении у подножия священной горы.
Я понимаю эту ненависть. Мучительно смотреть, как другой садится за пиршественный стол, к которому вас не позвали, или ложится в постель с женщиной, которая вас отвергла. Мне от всего сердца жаль беднягу евнуха, вынужденного наблюдать забавы турецкого султана.
Он допущен в самые сокровенные недра гарема; он водит султанш на омовения; он видит, как в серебряной воде обширных бассейнов блистают их прекрасные тела, покрытые перлами брызг и гладкие, как агат; самые тайные прелести являются перед ним без покровов. Его не стесняются: он евнух. Султан ласкает при нем свою фаворитку и целует ее в гранатовые губы. Прямо скажем, положение у евнуха двусмысленное, и, надо думать, сдержанность дается ему дорогой ценой.
То же самое и критик: он видит, как поэт гуляет по саду поэзии со своими девятью красавицами-одалисками и лениво забавляется в тени могучих зеленых лавров. И критику очень трудно удержаться и не набрать на большой дороге камней, чтобы швыряться ими в поэта из-за забора и зашибить его, если достанет меткости.
Критик, который сам ничего не создал, — низкий трус; он все равно что аббат, который строит куры жене мирянина: тот не может ни ответить ему тем же, ни вызвать его на дуэль.
Думаю, что история различных способов чернить чужие книги, употреблявшихся за последний месяц, была бы по меньшей мере столь же увлекательна, как история Тиглатпаласара или Геммагога, изобретателя башмаков-пуленов.
У нас достало бы материала томов на пятнадцать-шестнадцать ин-фолио, но смилуемся над читателем и ограничимся несколькими строчками, — за это благодеяние нам причитается вечная его признательность и даже более того! В весьма отдаленную эпоху, которая теряется во тьме веков, a точнее, приблизительно три недели тому назад, в Париже и его предместьях процветал по преимуществу некий средневековый роман. В большой чести была кольчуга; прическе «бараний рог» также отдавалось должное; особое внимание уделяли двуцветным штанам; превыше всего ценился кинжал с трехгранным клинком; башмаки-пулены обожествлялись, как фетиши. Только и слышно было о стрельчатых сводах, дозорных башнях, колоннах и столбах, цветных стеклах, соборах и укрепленных замках; все бредили высокородными девами и надменными рыцарями, пажами и оруженосцами, бродягами и наемниками, галантными кавалерами и свирепыми феодалами, — и все это, разумеется, было невинней самых невинных игр и никому не причиняло зла.
Критик не стал дожидаться второго подобного романа, чтобы начать свой разрушительный труд; не успел выйти в свет первый, как он уже завернулся во власяницу из верблюжьей шерсти и высыпал себе на голову целое ведро пепла; затем он заголосил что было мочи:
— Снова средневековье, опять это средневековье! Кто избавит меня от средневековья, от этого средневековья, которое на самом деле — никакое не средневековье! Это картонное, глиняное средневековье, оно только называется средневековьем! Ох, железные бароны в железных латах, с железными сердцами в железной груди! Ох, уж эти мне соборы, их вечные великолепные розы и вечные цветные стекла, переливающиеся чудными узорами, гранитное кружево, ажурные трилистники, зазубренные коньки, узорчатые каменные ризы, подобные подвенечному наряду невесты, свечи, псалмы, пламенные пастыри, коленопреклоненный народ, гудение органа и ангелы, парящие и хлопающие крыльями под церковными сводами! Как они испортили мне мое собственное средневековье, такое изысканное и красочное! Они скрыли его под толстым слоем аляповатой краски! Какие безвкусные завитушки! Ах невежды-пачкуны, вы мните, будто создаете колорит, а сами ляпаете красную краску на синюю, белую на черную, а зеленую на желтую; вы увидели только самый верхний слой средневековья, вы не разглядели души средневековья; во плоти, которою вы облекли ваши фантомы, не циркулирует кровь, под вашими стальными латами нет сердца, в ваших штанах-чулках нет ног, а под платьями с шлейфами — ни животов, ни грудей: это просто одежда, которой придана человеческая форма, и ничего более. Итак, долой такое средневековье, которое нам подсовывают иные сочинители (прекрасное словцо, однако, для них подобрано: сочинители!). Средневековье сегодня совершенно некстати, подавайте нам что-нибудь другое.
А читатели, видя, как критика охаивает средневековье, пылко влюбились в это самое незадачливое средневековье, которое те надеялись прихлопнуть на месте. Благодаря сопротивлению газет средневековье заполонило все — драмы, мелодрамы, романсы, рассказы, стихи; появились даже средневековые водевили, и Мом принялся повторять феодальные куплеты.