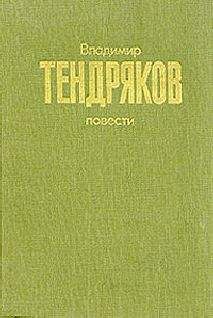Владимир Тендряков - Покушение на миражи
Слух о новом пророке долетел и сюда, судили, гадали и ждали, как отзовется о нем Садок. И тот заговорил словами Иезекииля:
— Пророки твои, Израиль, как лисицы в развалинах. Они видят пустое и предвещают ложь, говоря «Господь сказал», а Господь не посылал их… И будет рука моя против этих пророков, видящих пустое и предвещающих ложь…
После полудня, когда жара стала спадать, из всех домов начали стягиваться к берегу. Виноградари забыли о своих виноградниках, кожевники бросили свои замоченные кожи, рыбаки не собирали сети к вечернему лову, топтались на берегу, переговаривались, вглядывались в море, ждали — не покажется ли лодка.
Она показалась, когда за далекими отсюда Кармельскими горами солнце стало погружаться в зеленые воды великого моря.
Весла, вырываясь из воды, тревожно отсвечивали на закате. С каждым взмахом барка приближалась к берегу. Сосредоточенное молчание нарушил Иоанн, младший из сыновей Зеведеевых, которых за неумеренную восторженность и шумливость Сын Человеческий назвал недавно «сыновья громовы».
— Весь город высыпал! — выкрикнул Иоанн радостно.
Серьезный Симон, радовавшийся и огорчавшийся только про себя, обронил:
— Не нравится мне.
— Не нравится, что встречают учителя? — возмутился Иоанн.
— Слишком дружно встречают.
Толпа на берегу была настораживающе неподвижна — ни одного взмаха руки, никто не бежит к воде, чтоб первому встретить нового пророка, сплоченно стоят. И Симона поддержали:
— Вифсаида не любит гостей.
— В ней никому не верят.
— Даже друг дружке только по праздникам.
— Разбойный город.
И юный Иоанн, «сын громовый», растерянно промолчал.
— Учитель наш, — сказал Симон, — похоже, недоброе там затеяли.
Учитель из Назарета, сидевший на носу, оглянулся с блуждающей улыбкой. Он не боялся толпы, он верил в свою силу над ней.
— Берег близко, — ответил он. — Высадите меня и поверните прочь, если боитесь.
— Я останусь с тобой, учитель! — воскликнул Иоанн.
Симон недовольно помолчал и сдержанно возразил:
— Куда нам поворачивать? Глаголы жизни вечной у тебя. Под носом барки заскрипела галька.
От толпы отделилось десятка два мужчин. Впереди, наструненно прямой, несущий на своих плечах рубище, как Аарон червленые ризы, выступал Садок. Он подошел к самой воде.
— Тот, кто называет себя Сыном Человеческим, пусть выйдет на берег. Остальные останутся в лодке.
За спиной усохшего Садока стояли рослые и хмурые вифсаидцы, а дальше сплоченная толпа…
— Нас очень мало, учитель, — тихо обронил Симон.
— Кто может спасти того, кто пришел спасать других? — возразил Сын Человеческий и полез из барки.
Симон поспешно выпрыгнул в воду, подхватил на руки учителя, перенес на берег. За ним перемахнул через борт Иоанн.
— Ты слышал, Симон сын Ионы!.. Ты знаешь, что Садок из Вифсаиды не любит повторять дважды!
— Разве я один могу помешать вам? — спросил Симон.
— Ты нам просто не нужен, как и тот безбородый, который поспешил за тобой.
Учитель кивнул Симону на лодку:
— Уходите… Им легче иметь дело с одним.
— Каждый может взять камень, учитель…
— Для этого еще надо нагнуться. Уходите в лодку оба!
И Симон повиновался, подтолкнув Иоанна к барке, сам следом вскарабкался через борт.
— Лучше будет, если вы отплывете подальше. И совсем хорошо, когда вернетесь назад, — посоветовал Садок.
Но барка не двинулась с места.
Садок тронул за рукав пророка, и они направились к толпе, оба низкорослые, неторопливые, одинаково преисполненные достоинства. За ними, с хрустом давя гальку, вышагивали сопровождавшие.
Толпа при приближении зашевелилась, раздвинулась и вновь сомкнулась, скрыв учителя от учеников.
Вплотную тугая пустота, ее сжимает плотный круг лиц, безбородых и бородатых, мужских и женских, старчески немощных и налитых угрюмой силой, родственно схожих нелюдимой настороженностью. Много ли тут счастливых? Есть ли хоть один в этом слитном круге? У каждого наверняка своя беда, свои горести, большие иль малые. Беды разные, а страдания у всех одинаковы, одни и надежды — о благополучии, о справедливости. Он дерзнул прийти к ним, позвать в вымечтанное царство, где нет несчастных, нет ни обидчиков, ни обиженных, но вот обложен со всех сторон, как опасный зверь.
И Садок окружен вместе с ним — толпа предоставила ему право судить.
Садок понимает — ежели не осудит, не справится, сам будет судим.
Толпу да, похоже, и Садока озадачивает спокойствие гостя — стоит в пустоте, маленький, нелепый, в тяжело обвисшей одежде, беззащитно жалкий, но глаз не прячет, затравленно не озирается и не храбрится вызывающе. Прост до оторопи, до смущения.
— Ты называешь себя Сыном Человеческим? — Слова Садока, как железные скрежещут друг о друга.
— А чьим сыном я могу быть? Или ты сам не из рода человеческого? Или я не похож на тебя? — Он отвечал не напрягая голоса, однако внятно, слышно всем.
— Правда ли, что ты говорил — послан от Бога?
— Правда.
— И после этого считаешь — я похожу на тебя? Кто из нас посмеет сказать людям: меня послал Бог?! Таким был один Моисей.
— Ты ошибаешься. Каждый из нас послан на землю Богом. Толпа завороженно замерла, а Садок озадаченно промолчал. Но он ничуть не смутился, он еще только прощупывал приезжего, не наносил удара. Теперь пришло время…
— Называл ли ты себя господином субботы? — спросил он. Ответ сразу, без запинки, без раздумья:
— Называл.
Общий гневный выдох, за ним перекатом угрожающий гул по толпе. Садок поднял руку, темную, со скрюченными пальцами, как птичья лапа.
— Разве ты дал нам субботу, что считаешь себя господином ее?
— Дал ее Бог мне и вам.
— Ты присвоил себе Богово. Берегись, прохожий!
— Смерть ему! — режущий визг из толпы. Самый нетерпеливый, самый неистовый объявил о себе.
Но птичья лапа Садока властно заставила умолкнуть.
— Как я мог присвоить то, что мне дано? — по-прежнему негромок и внятен голос гостя. — Раз Бог дал нам субботу, то она уже наша. Суббота для человека, и мы ее господа.
Визг не повторился, толпа молчала, сотни глаз обеспокоенно разглядывали отчаянного. И Садок взмыл над молчащей толпой:
— Значит, всякий может распоряжаться субботой как хочет?! Летучие мыши проносились над толпой, бесшумны и бесплотны в застойном воздухе, словно клочья нарождающейся черной бури средь обмершей природы. В насыщенной ожиданием тишине спокойные и обидно будничные слова:
— Если ты дашь мне динарий, то кто будет распоряжаться им после этого — ты или я?
— Суббота не динарий, прохожий!
— Как и ты не Бог. Но даже ты не станешь настолько мелочным, чтобы дать и не разрешать пользоваться. Неужели Бог мелочнее тебя, человек?
Теснящиеся вокруг недружно зашевелились, заоглядывались. Лица, лица, но они уже утратили родственную схожесть, они все выражали разное — изумление страх озадаченность, колебание (вот-вот согласятся с прохожим) и прежнее ожесточенное недоверие. Толпа перестала быть единым телом, распалась на людей — разных, предоставленных самим себе.
Садок стоял гневно-прямой, тянул шею, обжигал взглядом страннного пророка, не изрыгающего проклятия, не грозящего всевышними карами, не возвышающего даже голоса — роняющего лишь тихие и такие обычные, понятные всем фразы.
— Ты опасней чумы, прохожий! — скрежещущий голос. — Куда ты зовешь нас? Поступай как хочешь, проводи субботу, как хочешь, живи! Не запрещено, все дозволено — можешь убить, лжесвидетельствовать, прелюбодействовать с чужой женой… Каждому все разрешено!
Начавшая было распадаться толпа всплеснулась в едином негодующем ропоте, вновь монолитно слилась, задние начали давить на передних, упругое кольцо дрогнуло, заколебалось, стало сжиматься. И в этом враждебно неустойчивом, конвульсивно живом кольце скрежещуще гремел Садок:
— Зачем людям Закон?! Зачем людям единый Бог, если каждый сам по себе — как хочет? Каждый для себя вместо Бога! Вот к чему ты зовешь, прохожий!
И врезался острый визг того неистово-нетерпеливого:
— Смерть ему!.. Сме-ерть!!
Казалось бы он, неистовый, наконец-то дождался момента, но нет — рано.
Снова вскинулась птичья лапа Садока.
— Пусть ответит!
— Пу-у-усть отве-е-ети-ит!!! — грозным обвалом из сотен грудей.
Обрушившийся обвал долго рокотал, раскатывался, не мог утихнуть. Молчал пророк, ничтожно жалкий перед вздыбленной яростью, молчал, с покорным терпением ждал тишины. И она наконец наступила — неустойчивая, обжигающая, дышащая гневом.
— Если каждый примет в себя Бога, как тогда можно будет обидеть кого-то? В каждом человеке — Бог, каждого уважай, как Бога! — Он выкрикнул на этот раз громче обычного, боясь, что не успеет, не будет услышан.
![Владимир Тендряков - Собрание сочинений. Том 5. Покушение на миражи: [роман]. Повести](/uploads/posts/books/134063/134063.jpg)