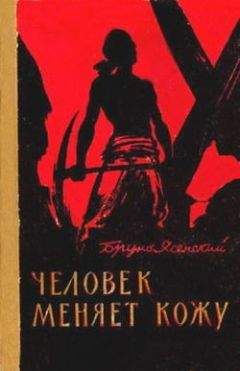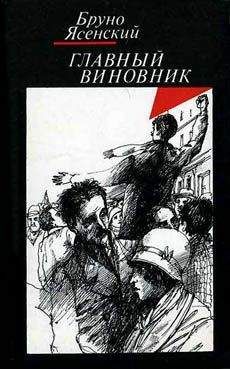Бруно Ясенский - Заговор равнодушных
Тут зазвенели стопки, фигурально именуемые бокалами, поднялся невероятный шум и гам. «Так вспомним же юность свою боевую, так выпьем за наши дела!…»
Потом пили за год «19-35», как за номер телефона любимой, за дружбу, за секретаря райкома Карабута, поправляющегося после болезни в Сочи, за Женю Гаранину и за неудачно отсутствующих.
Под звон и гомон никто не заметил, как в комнату вошел Володя Ичкуткин и вызвал в коридор Петю, как Петя вернулся и знаком вызвал Цебенко, как Цебенко вызвал в коридор Фишкинда, а Фишкинд – Васю Корнишина. Спохватились только тогда, когда за столом стало вдруг пусто и тихо. А Боря Фишкинд стоит уже в коридоре в кепке. А Вася Корнишин надевает пальто.
– Что вы, ребята? Случилось что-нибудь?
И тогда из передней появляется Костя Цебенко и подходит к Жене Гараниной. Лицо у него необычное, строгое, а глаза беспокойные, жалостливые.
«Чего он на меня так смотрит?»
– Что такое? Случилось что-нибудь?
И уже сердце стучит: да, да, случилось, непременно случилось!
– Женя, – говорит Цебенко. – Мы все тебя любим, как товарища, и доверяем тебе безусловно… Какие смешные слова!
– К чему ты это, Костя?
– И ты, как комсомолка, должна нас понять…
– Что же я должна понять? Зачем такое витиеватое предисловие?
– Сегодня на бюро Гаранина исключили из партии…
– Что-о-о? Этого не может быть! За что?
– Говорят, за троцкизм.
– Какая нелепость! Подожди, ты всерьез? Ведь он никогда не был ни в какой оппозиции. Какой он троцкист? Ему двадцать пять лет…
– Женя, ты же комсомолка. Раз бюро исключило с такой мотивировкой, очевидно были какие-то данные.
– Но я тебе говорю, это нелепо. Ведь я же знаю Юрку!
– Если мотивы окажутся недостаточными, партгруппа может их отвергнуть. Да и после партгруппы остается комиссия партийного контроля. Но пока что никто из нас, ни я, ни ты, не вправе ставить под сомнение выводы нашего партийного бюро. А бюро исключило Гаранина как врага партии.
– Зачем же, Костя… зачем же сразу такие страшные слова?
– Женя, тебе тяжело. Поверь, и нам не легче. Но ты понимаешь сама: после того, что случилось, выпивать у него на квартире… Ты же сама понимаешь…
– Я думала, это в равной степени и моя квартира?
– Мы все знаем тебя, Женя, как преданного товарища… И никто из нас не сомневается: какой бы оборот ни приняло дело Гаранина, ты поступишь так, как должна поступить комсомолка.
– Конечно, я никого из вас не задерживаю, – тихо говорит Женя. – Вы совершенно правы. Только… все это свалилось на меня до того неожиданно…
– Погодите, так нельзя! – вступается Костя. Он несколько растерян. – Я думаю… чтобы тебе не остаться одной… с тобой побудут Гуга и Шура.
– Нет, ребята, спасибо, вы хорошие. Но я именно хочу побыть сейчас одна. Мне надо подумать… Я же должна понять. Идите, товарищи!
– Нет, Женечка, мы с Шурой останемся.
– Поймите, девушки, мне хочется побыть одной. Идите.
– Ты не сердишься на нас, Женя?
– Ну, что ты, Петя? Разве я не понимаю? Я все понимаю. Просто мне сейчас немного трудно. В большом несча-тье человек всегда до того одинок…
– У тебя, Женя, много товарищей, которые тебя по-настоящему любят и в тяжелую минуту всегда с тобой. Если бы у меня не было надежды, что все еще как-то выяснится и обернется по-другому, я бы первый предложил тебе: иди, Женя, с нами! В коллективе всегда легче.
– Спасибо, Костя, за хорошее слово. Я тоже думаю, что все это еще выяснится.
– До свидания, Женечка.
Они уже в коридоре. Как они тихо идут! Ни смеха, ни голосов, ни привычного грохота по лестнице. Как с похорон… Вот их уже нет. Хлопнула дверь внизу. «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути…»
3
Теперь она совсем одна. На столе наполовину опорожненные графины, серебристая пробка от шампанского «Баян», кусок селедки на вилке, неоткрытая банка налимьей печенки, окурки, дым.
«Что ж это такое? Как же быть?»
Она бродит по комнате, натыкаясь на стулья. Беспомощно хрустят пальцы, и прямая складка на лбу обозначается все глубже и глубже. Уже час ночи. Заседание, наверное, давно кончилось. Почему все еще нет Юрки?
Лихорадочно долго стучит она по рычагу телефона. Толцыте и отверзется вам.
– Алло! Пожалуйста, квартиру Филиферова! Арсений, это ты? Говорит Женя! Арсений, мне необходимо тебя видеть. Сейчас же! Если можешь, зайди ко мне. Или я к тебе сейчас зайду… Да, знаю уже обо всем. Вернее, ничего не знаю, ничего. Скажи, у вас давно кончилось заседание? Уже больше часа? Нет, не приходил. Ты не знаешь, где он?… Значит, придешь? Хорошо, я тебя жду. Только, пожалуйста, сейчас же.
Трубка, покачиваясь, повисла на крючке рычага.
Минут через десять в комнату стучит Филиферов. Дверь отпирает Женя. Она спокойна и сдержанна. Так по крайней мере кажется ей самой. Но Филиферов видит: на Жене лица нет: «Как человек может измениться за каких-нибудь полчаса! Уф! Нелегкое дело! Здорово, видно, любит своего Юрку».
– Гаранин не приходил?
– Нет. Не знаю сама, где его искать. Арсений, я так боюсь!
– Ну вот еще, какие пустяки! – успокоительным басом ворчит Филиферов. Он долго возится в поисках стула, который тут, под рукой. – Гаранин не ребенок, чтобы делать глупости. Бродит, наверно, где-нибудь по улице. Трудно после такой вещи сразу вернуться домой…
Филиферов вытирает платком больные красные веки У него давнишний конъюнктивит. Стоит ему понервничать – и веки начинает щипать. После сегодняшней бани на бюро щиплет, нет сил.
Он достает пачку папирос «Бокс» и долго раскуривает папиросу. Спички гаснут, как на дожде.
Наконец Женя не выдерживает:
– Объясни мне, Арсений! Скажи! В чем тут дело? Неужели ты считаешь Юрку троцкистом? Ведь это нелепо!
– Во-первых, к твоему сведению, я за исключение Гаранина не голосовал…
– А кто выдвинул против него такое обвинение? Нельзя же такими вещами бросаться без всякого основания!
– Кто выдвинул, безразлично. Докладывать о том, что происходит у нас на бюро, я тебе не обязан, да и не имею права. А основания были. Если подходить со стороны, пожалуй и достаточные основания.
– Но какие же, какие? Это, я думаю, не секрет?
– Во-первых, Грамберг. Кто знал, что Грамберг – троцкист? Никто. Скрыл, подлец, перед партией. Твердокаменным большевиком прикидывался. Никто из нас его не раскусил. А оказывается, два раза исключался из партии. Ре-лих разоблачил его в лоск. Прижал к стенке, деваться некуда. Ну, а Гаранин, сама знаешь, поддерживал с Грамбергом весьма близкие отношения.
– Но ведь все вы поддерживали с Грамбергом близкие отношения. Сам говоришь, никто не знал о его троцкистском прошлом. И Релих, наверное, не знал, раз не разоблачил его раньше. Откуда же Юрка мог знать?
– Поддерживать-то поддерживали, но не все печатали его троцкистские статейки. А Гаранин напечатал.
– Какие статейки? Когда?
– Ты, Женя, успокойся. Нельзя так волноваться. Говорю тебе: я лично не думаю, чтобы Гаранин делал это сознательно. Но против факта не попрешь. Напечатал на прошлой шестидневке. По поводу отмены хлебных карточек. Грамберг утверждает в этой статейке, что введение у нас карточной системы было следствием бессилия партии в борьбе с кулаком. Конечно, говорит он об этом в завуалированной форме, но смысл несомненно такой. Все мы это проглядели. А теперь перечитываешь и хлопаешь себя по лбу.
– Но ведь ты сам говоришь: все это проглядели, не один Гаранин!
– А ты думаешь, мне выговора не влепили? Сам голосовал.
– Но почему же Юрку…
– За газету непосредственно отвечает Гаранин. Будь только этот случай, наверняка отделался бы строгим выговором. Ну, сняли бы с газеты…
– А разве еще что-нибудь?
Филиферов кивает головой. Ах, как щиплет глаза. Может, это от дыма? Ну, и накурено же здесь!
– В передовой самого Гаранина очень скользкое место. Доказывает он там, что заводская молодежь значительно резче реагирует на неполадки производства, чем старики, даже старики из руководящих. Дескать, те успели свыкнуться с неполадками. Поэтому к сигналам молодежи всем нам очень и очень надо прислушиваться…
– Ну, а разве это неправильно? Что ж тут такого?
– Раз «всем нам», значит, и партийной организации, и всей нашей партии, и «старикам из руководящих», как там сказано. И что же это иное, если не старая троцкистская теория барометра?
– Но ведь Юрка вовсе этого не хотел сказать! Просто неудачно выразился.
– В политическом словаре нет такого термина: «неудачно выразился». Гаранин – парень достаточно грамотный, чтобы выражаться удачно.
– Но ведь ты тоже этого не заметил?
– Вот и бьют за то, что не заметил. Скорее всего снимут и пошлют на низовую работу.
– И это все обвинения?
– Нет, не все. Когда Гаранин в прошлом году учился в КИЖе, был там у них один преподаватель, некто Щуко. Сейчас арестован. Гаранин работал у него в семинаре. Сам в этом признался на прямой вопрос Релиха. Говорит, на дом к нему заходил раза два за книжками. А потом ни с того ни с сего бросил КИЖ и вернулся обратно на завод… Ну вот, одним словом, эта связь со Щуко, внезапное возвращение на завод… Завод наш оборонный… К тому же, говорят, Гаранин когда-то – я, между прочим, об этом не знал – не то выходил, не то заявлял о своем выходе из комсомола. Словом, одно к одному…