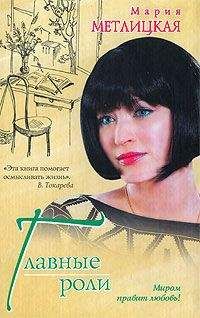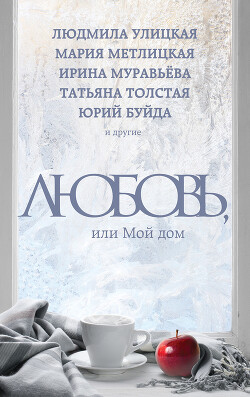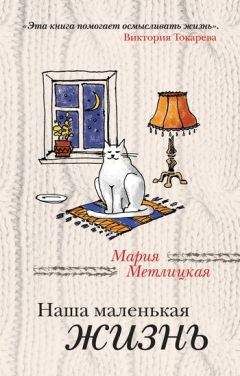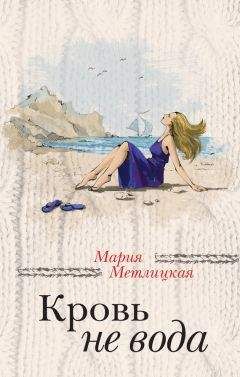Главные роли - Метлицкая Мария
Позже гинекологиня Адочка, бойкая бабенка, решила ее просватать за своего дальнего родственника. Жениха рекламировала активно и с удовольствием – и собой хорош, и умница, и эстет, и не беден. Вот только немолод, но это – достоинство, а никак не недостаток. Он пригласил их к себе на старый Новый год. Жил он в старом крепком доме в самом центре Москвы. Квартира Элен поразила – синие шелковые обои, наборный темный паркет, бронзовые ручки на тяжелых дверях, мутноватый хрусталь на старинных люстрах, гнутые ножки кресел, низкие пуфики с кистями, столики с перламутром, напольные вазы и слегка потертые настенные ковры.
Сам хозяин был элегантен, высок и седовлас, галантен – целовал дамам руки и с гордостью показывал свои картины. Адочка болтала без умолку, а он спокойно, с достоинством и улыбкой сервировал в столовой ужин. На небольшом круглом столе, покрытом бархатной скатертью, лежали серебряные приборы с желтоватыми костяными ручками и, естественно, мейсенский сервиз. Все было элегантно и необычно – тонкие кружевные блины стопочкой, две серебряные вазочки с черной и красной икрой, маринованные маслята, розовая семга и желтоватая, со слезой, севрюга и утиные грудки, пересыпанные яблоком и черносливом. Пили, конечно же, шампанское. Говорливая Адочка после изрядной порции икры и блинов поспешила удалиться, а Элен и Павел Арнольдович (так он представился) остались наедине. Элен очень хотелось вдоволь поесть икры, да не с блинами, а с белым хлебом и маслом, но она, конечно, постеснялась, а вот от стеснения шампанского выпила много и от волнения сразу сильно опьянела. Она была очень смущена, но от выпитого почему-то стала путано оправдываться и пыталась проговорить эту дурацкую ситуацию – их запланированное знакомство. Выходило это как-то нелепо и глуповато. Хозяин ее успокаивал, улыбался и гладил по руке. Вдруг она поняла всю нелепость происходящего и совершенно некстати расплакалась, и еще очень разболелась голова. Павел Арнольдович растерялся, утешал ее как мог, проводил в ванную и уложил в спальне, укрыв мягким пледом. Ее еще долго мутило, и было стыдно за дурацкие слезы и истерику, но потом она уснула. Проснулась она от слабых поцелуев и неспешных ласк. Она удивилась, но противиться не было сил, правда, она слегка отворачивала лицо. Все, что было потом, напоминало растаявшее мороженое – не горячо, не холодно, не вкусно, не противно, а так, сладковато, и все.
Утром они пили кофе из маленьких изящных чашечек, немного смущенные, и опять болела голова. В прихожей он подал ей пальто, поцеловал руку и вложил в нее свою визитную карточку – редкость по тем временам. Элен торопливо сбежала вниз по лестнице, не дождавшись лифта. На улице ей стало легче, и она обрадовалась свежему снегу и легкому морозному воздуху. Она долго шла по бульварам, не спешила спускаться в метро и все прокручивала в голове сложившуюся ситуацию.
Да, не молод, да, не пылок, но так хочется покоя, и здесь, уж конечно, обойдется без истерик и эскапад, да и к тому же – интересный человек, это уж наверняка, и скорее всего театрал. Она сняла с головы шарф и быстрой походкой шла по белому, хрусткому, только что выпавшему снегу. Он позвонил ей дня через три и, усмехаясь, сказал, что был бы рад увидеться с ней в субботу, да-да, именно в субботу, что он – человек немолодой и очень любит определенность и размеренность. Что ж суббота так суббота, очень даже удобно, решила Элен.
В субботу – интимная встреча, а в воскресенье, после легкого завтрака можно прогуляться, зайти на выставку, а вечером сходить в театр или на концерт. Так думала Элен. А вышло все совсем не так. В субботу он действительно ее ждал и принимал радушно и слегка чопорно, что опять очень смущало ее, опять был накрыт ужин с шампанским, далее все было опять так же – вяло, быстро и слегка приторно. В общем, без вариаций. А утром он поил Элен крепким кофе и элегантно, но старательно и даже настойчиво выпроваживал. Было видно, что он устал и мечтает как можно скорее остаться один. Слегка разочарованная и обиженная тем, что ею пренебрегают, Элен медленно спустилась по лестнице и опять задумчиво шла по бульварам, чувствуя себя одинокой и ненужной. Адочка рассказывала Элен, что когда-то давно, в молодости, Павел Арнольдович был женат на необыкновенной красавице, оперной певице, рано скончавшейся от болезни крови, и тогда он дал себе зарок не жениться никогда и так прожил свою жизнь бобылем, хотя баб, конечно, было море – и актрисы, и балерины, и стюардессы. Бонвиван он был известный – бабы за ним убивались, да и деньги у него водились всегда. А сейчас уже не тот, да и не до того, и нужен ему покой и тихая приличная и интеллигентная женщина, без дури в голове и не алчная до денег. Только, не дай Бог, не старуха, нет-нет. Лет до тридцати и обязательно красавица – он был эстет.
– А чем он занимается? – спросила наивная Элен.
Докторша вздохнула и многозначительным шепотом сказала, что он деловой человек. И добавила:
– Очень деловой! Понятно?
Особенно «понятно» Элен ничего не было, кроме одного – ею с удовольствием пользуются. Опять пользуются. Судьба, что ли, такая?
«И я буду пользоваться, – вздохнула она. – По-моему, вполне справедливо».
Но все эти установки не работали – этому никак не способствовала ее натура. Очень скоро она привязалась к Павлу Арнольдовичу и стала заботиться о нем той женской, почти материнской, заботой, которой заботилась о нем одна только старая его домоправительница, экономка, как называл он ее, и то щедро им оплачиваемая. К такой заботе, исходящей от любовницы, он не привык и был удивлен и смущен. Теперь, когда он прибаливал, она растирала ему спину, заваривала в термосе травы, делала согревающие компрессы, кутала его в теплые, из собачьей шерсти, свитера, варила каши и бульоны. Сначала он отнекивался, а потом быстро привык и даже почти перестал играть уже поднадоевшую самому себе роль обольстителя. Годы брали свое. Теперь Элен он ценил безумно и привязался к ней не на шутку, пугаясь этой незнакомой ему зависимости. «Редкий экземпляр!» – думал он каждый раз, глядя на Элен.
– Тебе бы, Леночек, мужа хорошего да богатого, эх, где мои года-годочки! – кокетничал он. Недоверчивый ко всему и ко всем, теперь он даже доверил ей ключи от квартиры – случай в его жизни небывалый.
Так бы мирно и смирно они бы и существовали и дальше, вполне довольные друг другом, если бы в жизни Элен не случилась перемена. Или судьбоносная встреча, если хотите. Наконец Элен влюбилась. И объект опять был слабоват для ее первого и сильного чувства – одинокий и незадачливый литератор, считающий себя, конечно же, великим писателем, пишущий, разумеется, в стол. К тому же сильно пьющий неврастеник. В общем, все как положено. Звали его Григорием. Жил он в нищете в однокомнатной хрущобе на первом этаже, где его с удовольствием посещали местные маргиналы и алкаши. В состоянии сильного подпития был почти агрессивен, а после начинались рыдания и жалобы на вселенскую несправедливость. Собой он был вполне хорош – высок, худ, с красивыми крупными руками и темной окладистой бородой. Будучи не в духе (а это было его основное состояние), называл Элен строго – Еленой Васильевной, а изредка, находясь в состоянии добродушном, ласково и пошловато величал Лялечкой. В быту, как все одинокие и пьющие люди, был неприхотлив – питался чем Бог пошлет, а точнее тем, что принесут друзья под закуску, – дешевой колбасой, луком, плавленым сырком. Элен взялась за дело серьезно – сначала непомерная уборка (не поленилась, притащила из дома пылесос), потом повесила на окна занавески, прихватила из дома кастрюли и чашки, на подоконник поставила два горшка с фиалками – белыми и розовыми. Григорий смотрел на это скептически, приговаривая, что в жизнь свою глубоко он ее все равно не допустит, как ни старайся. А она на его колкости не отвечала, варила молча густые мясные щи, и утром, в похмелье, отведав горячих наваристых щей, он почти смирился с ее активным вмешательством в его холостяцкую жизнь.
Ее все это вполне устраивало, очень хотелось – так было легче – считать его гением. Любила она его сильно, не пыталась переделать ни в чем, принимала таким, как есть, жалела, ненавязчиво заботилась о нем, а когда он раздражался и даже оскорблял ее, она тихо плакала, доводя его этим почти до исступления, но все же он сдавался. С ним она впервые познала физическую любовь, пусть замешанную на слезах, жалости и обидах, но все же истинную, плотскую, яркую, приправленную соленым потом и вкусом крови на покусанных губах. О Павле Арнольдовиче она тогда почти забыла, но он объявился сам, найдя ее и сетуя на то, что она его совсем забросила, больного и одинокого. Ей почему-то стало стыдно, и она отправилась к нему в субботу, как прежде, рассчитывая только на кофе и дружескую беседу. Он был, как всегда, элегантен, гладко выбрит и приятно пах. В столовой был накрыт ужин на двоих – крабовый салат, бараньи отбивные, шоколадное мороженое. Элен выпила красного вина, расслабилась и подумала, что впервые за многие месяцы ей было хорошо и спокойно. Павел Арнольдович вышел в кабинет и торжественно вынес маленькую черную бархатную коробочку. В коробочке лежали золотые часы на плетеном браслете – изящные, прелесть! Ушла она от него утром, ничуть не смущаясь и не жалея о происшедшем, это и вовсе ей не казалось изменой. Боже, какая же это измена? Смешно, ей-богу. Это была совсем другая жизнь, совсем другая история, не имеющая к ее любви никакого отношения. Как хотите, но это был долг, что ли, да, наверное, все-таки долг, как смешно это ни звучит, и еще, наверное, жалость, да, опять жалость, и еще, наверное, уважение и хорошее отношение. И кому от этого стало плохо? Так и стала она опять ходить по субботам к Павлу Арнольдовичу – нет-нет, не из-за часиков, конечно, и не из-за бриллиантовых сережек и даже не из-за денег, которые он теперь деликатно подкладывал ей в сумочку и на которые она потом кормила своего непутевого возлюбленного. А скорее по привычке, отчасти благодарности и еще в поисках того, чего ей так теперь не хватало, – душевного покоя и комфорта. Он был тонок и умен и, конечно же, догадывался, что у Элен есть другая, параллельная жизнь. Его это смущало и коробило, но все же привязанность к ней была сильнее, и, удивляясь своей слабости, он впервые в жизни закрывал на это глаза.