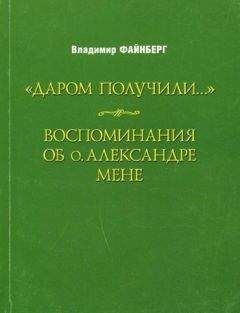Джозеф Конрад - Негр с «Нарцисса»
— В чем дело? В еде? — спросил капитан. — Ведь вы знаете, что запасы пострадали у Мыса?
— Мы знаем это, сэр, — сказал бородатый матрос в переднем ряду.
— Работа слишком тяжела, э? — спросил снова капитан.
Воцарилось обиженное молчание.
— Мы не желаем работать через силу, — начал наконец Девис дрожащим голосом, — если этот черный…
— Довольно! — крикнул капитан.
Он остановился на минуту, пронизывая их взором, затем, делая по несколько шагов в ту и в другую сторону, грозно накинулся на них; и гнев его вырывался порывами буйными и режущими, как штормы тех ледяных морей, которые он знал в юности.
— Сказать вам в чем дело? Зазнались вы, вот что! Вообразили себя чертовски нужными людьми. Знаете дело через пень колоду. Работаете спустя рукава. Вы называете это «через силу»? Если бы вы работали в десять раз больше, и того было бы мало.
— Мы старались как могли, сэр, — крикнул кто-то дрожащим от обиды голосом.
— Как могли? — продолжал бушевать капитан. — Вам много чего приходится слышать на берегу, так не слыхали ли вы там случайно, что вашим «как могли» не очень-то можно гордиться. Я говорю вам, что это «как могли» ни черта не стоит. Вы больше не можете? Нет, я знаю и ничего не говорю. Но и вы бросьте ваши дурачества, иначе я сам прекращу их! Бросьте!
Он пригрозил пальцем толпе.
— А насчет того человека, — он сильно повысил голос, — А насчет того человека, так знайте: если он высунет нос на палубу без моего разрешения, я надену на него кандалы. Вот!
Повар услышал из передней части эти слова, выбежал из кухни, воздел руки, пораженный ужасом, не веря своим ушам, и убежал снова.
Наступила минута глубокого молчания, в течение которой кривоногий моряк, отступив в сторону, откашлялся и деликатно сплюнул в шпигаты.
— Еще одно, — сказал шкипер спокойно; он сделал быстрый шаг и одним движением вытащил из своего кармана железный кофельнагель. — Вот это.
Его движение было так неожиданно, что толпа отшатнулась назад. Он пристально смотрел в их лица и некоторые под этим взглядом тотчас приняли удивленный вид, словно они вообще никогда не видали раньше кофельнагеля. Он поднял его вверх.
— Это касается только меня. Я вас ни о чем не спрашиваю, но вы меня понимаете. Этот предмет должен вернуться туда, откуда он вышел.
Глаза его приняли суровое выражение. Толпа беспокойно двигалась. Глаза бегали, чтобы не встретиться с куском железа. Все имели пристыженный и возмущенный вид, как будто им показали что-то позорное, отвратительное или непристойное, чего из простого приличия не следовало бы выставлять этак напоказ среди бела дня. Капитан внимательно наблюдал за ними.
— Донкин, — позвал он коротко и резко.
Донкин нырнул сначала за одну, потом за другую спину, но товарищи, покосившись на него через плечо, отодвигались в сторону. Ряды раскрывались перед ним и смыкались сзади до тех пор, покуда он не очутился наконец один, лицом к лицу с капитаном, как бы вынырнув из палубы.
Капитан Аллистоун подошел к нему вплотную. Они были почти одного роста, и шкипер в упор обменялся убийственным взглядом с глазами-бусинками. Они забегали.
— Вы знаете эту вещь? — спросил капитан.
— Нет не знаю, — ответил тот с наглой поспешностью.
— Вы негодяй! Возьмите это, — приказал капитан.
Руки Донкина, казалось, приклеились к бокам. Он стоял, глядя перед собой, словно выстроившись на смотру.
— Возьмите, — повторил капитан и подошел еще ближе, делая угрожающий жест.
Донкин оторвал одну руку от бока.
— Чего вы напустились на меня? — пробормотал он с усилием, словно рот его был набит тестом.
— Если вы… — начал капитан.
Донкин так порывисто выхватил кофельнагель, как будто имел намерение умчаться с ним, но остался стоять словно вкопанный, держа его точно свечку.
— Вложите его туда, откуда взяли, — сказал капитан Аллистоун, свирепо глядя на Донкина.
Тот отступил, широко раскрыв глаза.
— Ступай, негодяй, или я расправлюсь с тобой, — крикнул капитан, угрожающе наступая на Донкина и заставляя его медленно пятиться перед собой. Донкин попробовал было увернуться и защитить куском железа свою голову от грозного кулака. Мистер Бэкер на минуту перестал фыркать.
— Славно, черт возьми! — одобрительно бормотал мистер Крейтон тоном человека, знающего толк в подобных делах.
— Не троньте меня, — рычал Донкин, продолжал пятиться.
— Тогда иди! Ну, живо.
— Не смейте бить меня, я вас в суд притяну… я донесу на вас.
Капитан Аллистоун сделал длинный шаг, и Донкин, попросту повернувшись спиной, побежал немного, затем остановился и оскалил через плечо свои желтые зубы.
— Дальше, передний такелаж, — понукал капитан, указывая рукой.
— Что ж вы так и будете стоять и любоваться, как меня оскорбляют? — крякнул Донкин, обращаясь к толпе, которая молча следила за ним.
Капитан Аллистоун быстро подошел к нему. Донкин отпрыгнул в сторону, бросился к переднему такелажу и с силой вогнал кофель в его дыру.
— Мы еще посчитаемся!.. — крикнул он, обращаясь ко всему судну, и исчез на баке.
Капитан Аллистоун сделал оборот кругом и вернулся на корму с таким спокойным лицом, как будто успел уже забыть всю сцену. Люди уступали ему дорогу. Он не смотрел ни на кого.
— Я кончил, мистер Бэкер; пошлите вахту вниз, — сказал он спокойно. — А вы, ребята, постарайтесь в будущем не дурить, — прибавил он спокойным голосом. С минуту он задумчиво смотрел на спины подавленной и отступающей толпы.
— Завтракать, буфетчик, — с облегчением крикнул он через дверь каюты.
— Готово, — сказал буфетчик, появляясь перед ним, словно по волшебству, с запятнанной салфеткой под мышкой.
— А, прекрасно! Пойдемте завтракать, мистер Бэкер. Поздно… Мы завозились со всей этой ерундой.
V
На судне воцарилась тяжелая атмосфера гнетущего спокойствия. Днем люди занимались стиркой белья и развешивали его для сушки под неблагоприятным ветром, с медлительностью разочарованных философов. Разговаривали очень мало. Жизненные проблемы казались слишком обширными для узких пределов человеческой речи, и их, по общему соглашению, предоставили безбрежному морю, которое от самого начала времен захватило их в свою огромную длань — морю, которое знало все и неизбежно должно было открыть каждому в свое время мудрость, скрытую в заблуждении, уверенность, заключенную в сомнении — царство безопасности и мира за пределами горя и страха. И в беспорядочном потоке немощных мыслей, которые беспрерывно внедрялись тем или иным путем в тела людей, на поверхности, неизменно требуя к себе внимания, прыгал Джимми, словно черный бакен, прикованный ко дну грязной реки. Лицемерие торжествовало. Оно торжествовало благодаря сомнению, глупости, жалости, сентиментальности. Мы старались поддерживать его из сочувствия, из легкомыслия, из чувства юмора. Необычайное упорство, с которым Джимми цеплялся за свою ложь перед лицом неизбежной истины, носило в себе колоссальную загадку, представлялось нам каким-то величавым и непонятным явлением, которое по временам вызывало к себе благоговейное уважение. Многие, кроме того, находили нечто необычайное и изысканно забавное в том, чтобы дурачить таким образом Джимми, следуя его же собственному желанию. Скрытый эгоизм, заключенный в сострадании, заставлял нас все больше опасаться того, чтобы не сделаться свидетелями его смерти. Его упорное нежелание признать единственно достоверное, признаки приближения которого мы могли наблюдать изо дня в день, нарушали наше душевное равновесие не меньше какого-нибудь отступления от закона природы. Он так решительно заблуждался относительно себя, что нам не оставалось ничего другого, как только заподозрить его в доступе к какому-нибудь источнику сверхъестественного знания. Он был нелеп до вдохновения. Он был неподражаем и очаровывал нас, как может очаровывать только что-нибудь нечеловеческое; казалось, будто он выкрикивает свое отрицание, стоя уже по ту сторону ужасного предела. Он с каждым днем становился все более призрачным, похожим на видение; его скулы выдавались, лоб уходил все дальше, лицо покрывалось провалами и тенями и лишенная мяса голова все больше напоминала вырытый черный череп, которому вставили в глазные орбиты два беспокойных серебряных шара. Он производил на нас деморализующее влияние. Благодаря ему мы становились высоко гуманными, нежными, сложными, чрезмерно упадочными. Мы научились понимать тончайшие отгенки его страха, разделять все его антипатии, опасения, увертки, заблуждения, как будто и впрямь были причастны к утонченнейшей культуре, испорчены и лишены здравого представления о смысле жизни. Судя по нашему поведению, можно было подумать, что мы связаны между собой какими-то постыдными тайнами; у нас появились глубокомысленные гримасы конспираторов, многозначительные взгляды, короткие словечки, в которых таился особый смысл. Мы вели невыразимо подлую игру и были очень довольны собой. Мы лгали ему с глубокой убежденностью, с чувством, с умилением, словно разыгрывая какую-то моралите, в надежде на вечную награду. Мы подтверждали дружным хором самые нелепые уверения Джимми, словно он был миллионер, политик, или преобразователь, а мы толпа честолюбивых прихвостней. Иногда мы отваживались задать ему вопрос по поводу какого-нибудь невероятного утверждения, но делали это как раболепные льстецы, с тем, чтобы при споре еще больше оттенить своей угодливостью его превосходство. Он налагал отпечаток на всю нравственную сторону нашего мира, словно в его власти было распределять почести, сокровища или муки; а между тем он ничего не мог дать нам, кроме своего презрения. Оно было огромно; оно, казалось, постепенно росло по мере того, как его тело съеживалось день ото дня на наших глазах. Это было единственное, что производило в нем впечатление постоянства и силы, оно жило в нем неугасимой жизнью, оно говорило через вечно надутые черные губы; оно глядело на нас сквозь вызывающую наглость его больших глаз, которые все сильнее выступали вперед, придавая ему сходство с крабом. Мы напряженно следили за ним. Вся остальная часть его существа оставалась неподвижной. Он, казалось, избегал движения, как будто сам не доверяя своим силам. Малейший жест должен был неизбежно обнаружить перед ним (иначе несомненно и быть не могло) его физическую слабость и вызвать острый приступ душевной тоски. Он был скуп на движения. Он лежал вытянувшись, опустив подбородок на одеяло, сохранял лукавую благоразумную неподвижность; только глаза его блуждали по окружающим лицам — эти презрительные, проницательные, печальные глаза.