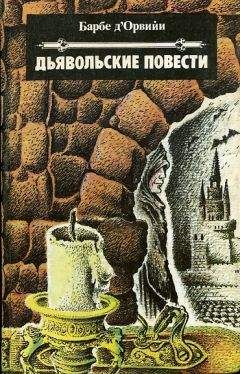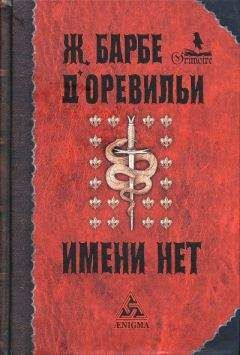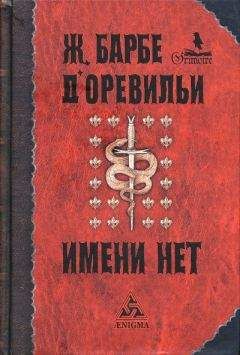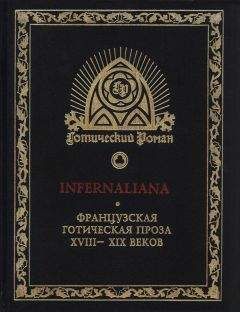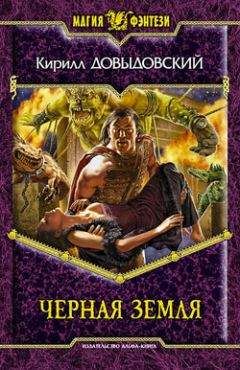Жюль-Амеде Барбе д'Оревильи - Порченая
Аббат де ла Круа-Жюган оценил по достоинству природную душевную силу Жанны, ее гордость высоким рождением, ее страдания от союза с мужланом-крестьянином и понял, как потрясена она новыми, неизведанными еще чувствами, превратившими ее лицо в пламенеющую маску. Он увидел, что Жанна — инструмент, не умеющий фальшивить, и как инструментом ею и воспользовался. В восемнадцать лет Иоэль равнодушно и безответно взирал на безудержную, испепеляющую любовь Аделаиды Мальжи. Бледный монах в белой рясе казался бесстрастным архангелом, кипевшие вокруг оргии не доплескивались до него. Он упал с неба на землю, но среди грешных и падших высился ледяным столпом, неся несчастье нежным, умеющим любить сердцам, что встречались ему на жизненном пути. Кроме ума и воли аббат был наделен еще и эфиром беспощадности, что убивает чистотой, чей слепяще-белый огонь питается лишь неосязаемым — идеей, властью, патриотизмом. Женщины, их чувства, их судьбы — неощутимые пушинки для жадных, для хищных рук подобных мужчин, а тянут они их только к мирам, которыми жаждут обладать, которые должны принадлежать им, и только им. Но кто знает, может быть, Иоэль, хоть и был священником и не помышлял внушать Жанне греховной страсти, все-таки во имя дела, которому отдал душу, подул бледными ледяными губами на угли кузнечного горна, расплавившего несгибаемое сердце Жанны? Ведь и железо становится мягким в огне…
И вот настало время вымолвить, высказать то нелегкое слово, какое я все медлил произнести: Жанна Мадлена полюбила аббата Иоэля де ла Круа-Жюгана. Если бы повествование мое было не просто пересказом случившейся истории, а имело несчастье быть романом, мне пришлось бы пожертвовать частью истины ради правдоподобия и постараться что-то придумать, чтобы эта любовь не казалась такой уж немыслимой. Я должен был бы найти убедительные причины, в силу которых здравомыслящая, уравновешенная женщина с сильной и чистой душой могла полюбить изуродованное страшилище. Я вынужден был бы настаивать на мужественном характере Жанны, на непосредственности ее деятельной натуры, для которой, как видно, и была изобретена поговорка: «Если от мужчины не шарахается лошадь, он достаточно хорош собой». Но, слава богу, психология мне ни к чему. Я всего-навсего рассказчик. Любовь, которую мне совсем не нужно обосновывать, любовь, преодолевшая сперва ужас, потом жалость, потом восхищение, справившаяся с миллионом предчувствий, наитий, препятствий, наконец завладела сердцем Жанны с неукротимой силой морской стихии, сметающей все, что бы ни встало у нее на пути.
Жанна Мадлена долго боролась со своей любовью, но в конце концов она стала очевидной и для слепых. Странная любовь, невозможная, она показалась бы немыслимой даже привычным к размышлению философам, приученным видеть в любви помрачение рассудка. А что же могли сказать о ней котантенские крестьяне, среди которых жила Жанна?! Скорее всего, и сама Жанна Мадлена, и дядюшка Тэнбуи считали ее наведенной порчей. Грозное предсказание пастуха со временем стало звучать в душе Жанны все отчетливее. Поначалу она пренебрегла им, смеялась над колдовством, над сглазом, но неодолимость того, что с ней происходило, заставила ее поверить в ворожбу. А иначе как могла она объяснить себе то, что с ней творилось? Думая о своем избраннике, она спрашивала себя: «Не отмечена ли и я печатью проклятья?», и ощущение собственной отверженности только усиливало ее любовь… Любовь ее несла на себе печать зверя из Апокалипсиса и обрекала ее бессмертную душу на вечную погибель. История бедной Мальжи не выходила у Жанны из головы, она чувствовала, что и ей уготован такой же конец, но, будучи от природы иной закалки, нежели страстная и слабая Длаида, вменила себе в долг таить пожирающую ее страсть и не открывать никому жестокой тайны. Сильные люди всегда так обманываются. Они уверены, что безумие собственного сердца возможно скрыть. В самом деле, какое-то время — как раз то самое, за какое изнашивается их жизнь, — они скрывают его, но приходит день, и безумие, которого они так стыдились, вырывается наружу, и вот все уже говорят о нем, хотя никто не верит, что такое могло случиться!
Настал такой день и для Жанны. После разговора Нонон Кокуан с Барб, служанкой кюре Каймера, по округе поползли смутные слухи: словечко, сказанное там, оброненное здесь, не громко, а шепотком, но шепоток вскоре сгустился в грозовую тучу, готовую разразиться бурей над головой бедной Жанны.
Поначалу все, подобно Нонон, толковали о «шуанских интригах». Но в чем они, эти интриги? В округе тихо, аббат де ла Круа-Жюган смиренно нес тяготы наложенной епитимьи и, по-прежнему подозрительный для правительства, не совершал ничего такого, что заставило бы вспомнить о нем как о главе «совиного войска». И в шуанство монаха и хозяйки Ле Ардуэй перестали верить.
Что поделаешь! Монархические идеалы и впрямь дышали на ладан. Усилия пастыря в черной рясе с капюшоном так и не разбудили усталые души дворян, бывших соратников по оружию. Дни бежали за днями, не принося новостей, частые встречи аббата и Жанны у старой Клотт все больше удивляли, а со временем удивление сменилось подозрениями.
— Ей-же-ей, — твердили разумники из Белой Пустыни, — пусть хозяюшка Ле Ардуэй из благородных и урожденная де Горижар, а на аббата де ла Круа-Жюгана без оторопи не взглянешь — он будто сотней осп переболел, — однако лукавый силен, и на месте старины Ле Ардуэя я бы обеспокоился, какие такие дела у моей жены с уродом аббатом. Монах-то никогда за рясу не держался, вмиг ее сбросил и к шуанам сбежал.
Досужие эти домыслы смущали умы местных обывателей все чаще и чаще, а бедняжка Жанна сама невольно давала для них повод.
Жанна страдала, и страдала жестоко. Любовь ее достигла той роковой точки, когда ни утишить ее, ни утешить изъявлениями собственной преданности обожаемому избраннику было уже невозможно. А тут и преданность стала не нужна. Месяц за месяцем загоняла себя Жанна, исполняя самые опасные поручения аббата. Озабоченный только одним: возродить проигранное дело, он посылал письма во все концы, а она их развозила. Останови ее жандарм, прочитай любое из посланий аббата — и ее расстреляли бы, несмотря на то что она женщина. Когда в Белой Пустыни думали, что Жанна исполняет в Кутансе поручения мужа, она стояла на морском берегу неподалеку от Лессе и передавала из рук в руки смельчаку вроде де Туша, который согласился возить монархическую корреспонденцию в Англию, очередное письмо. Трудная, напряженная, опасная жизнь изматывала Жанну и поддерживала ее. Но и опасной жизни пришел конец. Аббат потерял последнюю надежду…
С той же ледяной яростью, с какой заряжал когда-то мушкет, он облачился в ненавистную рясу, в которой был обречен теперь умереть! О том, что надежды аббата рухнули, Жанна узнала сразу: он перестал замечать ее — просто не видел. С характером твердым, с верой глубокой и истовой, Жанна мучительно страдала от неуправляемости той стихии, что толкала ее к пастырю с каменным сердцем. В глубине душе она чувствовала себя обесчещенной. Таких мук не утаить под «панцирем груди», как говаривал дядюшка Тэнбуи. Как ни старалась скрыть свои мучения Жанна, люди их заметили. И, заметив, вся Белая Пустынь задала себе вопрос: «А что же такое приключилось с бедной хозяюшкой Ле Ардуэй?» Господь ведает, что тут можно прибавить. Сияющая ее репутация разом померкла. Примерно тогда Тэнбуи с ней и познакомился.
— Я уже говорил вам, сударь, что мне трудно ее забыть, — произнес он с такой щемящей болью, что сердце защемило и у меня, — беда случилась раньше, но тут все ее заметили: разум оставил хозяйку Ле Ардуэй и только на взгляд она оставалась прежней. Не раз я видел, как с ней заговаривали, а она в ответ молчала, уставив на собеседника глаза, подернутые тусклой синевой, какая затягивает глаза мертвых телок. Это она-то! А недавно от небесной синевы ее взгляда засветились бы и окна собора! Огород, ее гордость, лучший огород в округе, стал для нее — тьфу! — пустым местом! Если она еще что-то делала, то разве что седлала кобылку и ездила на рынок, но дома, сударь, не было больше хозяйки и законной половины Ле Ардуэя, — остался футляр, пустая оболочка.
Ле Ардуэй, который, сказать по чести, порядочным человеком не был, жену на свой лад любил, чему порукой все, что потом случилось. Он то и дело спрашивал, что с ней да почему она такой стала, а она ему в ответ: не знаю, жар какой-то горит в голове. И клянусь быком у святых яслей, она говорила правду, — в голове у нее горел огонь, а лицо пламенело, будто дверца у печи, в которой выжигают известь и которая не остывает ни днем, ни ночью.
У горящей печки сиживал частенько и я, размышляя о погибели Жанны Мадлены. Ле Ардуэй самолично и не раз возил жену к докторам в Кутанс, но врачи ничего не могли поделать, потому как нехорошая и нелюдская была у нее болезнь, сударь! И вот доказательство тому, что замешан в ней был лукавый и сама она знала, чей коготь зацепил и держал ее: кюре Каймер посоветовал Жанне дать обет и молиться девять дней Пресвятой Богородице в Деливранде, но она, несмотря на всю свою набожность, не захотела. Что это, как не знать? Распоследняя степень беды и ведьмовства, сударь: Жанна отказалась от исцеления, полюбив ту участь, на которую ее обрекли! Одни винили пастуха из Старой усадьбы, другие — аббата, но, верите ли, сударь, и в Белой Пустыни, и в деревне Лессе, и в других окрестных местечках очень дурно и очень скверно говорили о несчастной хозяйке Ле Ардуэй. Мне так и не удалось дознаться, что же именно говорили, однако в правдивости передаваемых сплетен никто не сомневался, как не сомневаемся мы с вами, что находимся на пустоши, потому что все, да и я тоже, видели, и не раз, как сидит аббат на своей скамье в церкви, черный, будто грозовая туча, и стоит она, красная, будто огонь стыда, и не смотрит больше в молитвенник. Стоит, когда надо сидеть, сидит, когда все опускаются на колени, и каждому становилось ясно, что хозяином бедной порченой стал черный пастырь, а вернее, дьявол в обличье пастыря, который явился подначивать Господа в Его собственную церковь, под перекладину Его святого креста!