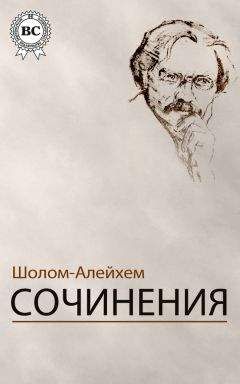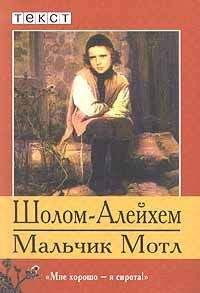Шолом-Алейхем - Сочинения
Кто этот Рафалеско? Откуда он взялся? Это знали немногие. Но все слышали, что какая-то еврейская труппа разъезжает по Галиции с неким Рафалеско, о котором газеты рассказывают чудеса и которого поэтому стоит повидать. Если верить газетам, Рафалеско – сущий чародей, «превращающий снег в сырники». И не только евреи, но и украинцы и поляки не могли нахвалиться юным актером, говорили и писали о нем в газетах, что растет второй Зоненталь, второй Поссарт, второй Ирвинг, Росси, называли имена и других великих артистов, с которыми сравнивали Рафалеско. А раз люди, не знающие еврейского языка, так хвалят юного артиста, то что уже говорить евреям! И все ходили смотреть на знаменитого молодого чародея, все восторгались блестящей звездой, появившейся на горизонте еврейского театра.
Чем же, собственно, юный артист покорил публику? Судя по рецензиям, появившимся в прессе, только одним: тем, «что он всегда и везде серьезен, прост, до наивности прост, правдив, как сама правда, естествен, как сама природа».
«Вся еврейская бродячая труппа в целом, – писал один рецензент, – не стоит и ломаного гроша. Еврейский театр без Рафалеско, подобно всем еврейским театрам, – не более как балаган, шутовство, тьма кромешная. Он мертв, как кладбище. Но с той минуты, как на сцене появляется Рафалеско, сразу становится светло во всех его уголках. Светло, тепло и радостно. Все живет, все движется. Это уже более не сцена, не театр. Это сама жизнь».
Так писали критики, рецензенты. А публика? Что говорила публика? Еврейская публика, которая и по сей день не очень избалована ни хорошим театром, ни талантливыми пьесами, ни знаменитыми актерами, шла смотреть эту восходящую звезду, этого чародея Рафалеско, как идут смотреть на чудо. Публика осаждала театр, дралась из-за билетов и аплодировала, отбивая себе руки. И хотя публика бежала в театр не потому, что разбиралась в тонкостях искусства, а скорее потому, что весь свет дивился этому чуду, а «свет, как говорится, еще с ума не сошел». Все же почти каждый зритель, сидя в театре, чувствовал, что видит нечто новое, какую-то необычайную силу, какую-то неведомую скрытую мощь. Выходит человек, произносит как будто самые обыденные слова и причем так просто, так естественно, без фокусов. Но он затрагивает все струны вашего сердца, будит в вас скрытые мысли, уснувшие чувства, и легкий морозец пробегает у вас по коже, и вы чувствуете вместе с ним, переживаете вместе с ним, не в силах глаз от него оторвать. А когда он покидает подмостки, у вас невольно вырывается громкий возглас: «Браво!»
Не удивительно поэтому, что публика жаждала узнать, кто он, этот чародей, этот молодой артист. Откуда он родом? Где учился? Откуда у него эта сила? Как он выглядит в жизни? Как его настоящее имя? Да мало ли что еще хотелось бы знать публике! Но сколько ни ломали себе головы любопытные поклонники, сколько ни допытывались, ни расспрашивали, они не могли узнать ничего больше, кроме того, что знаменитого артиста зовут Лео Рафалеско, что родом он из Бухареста и что он совсем еще молод, лет восемнадцати-девятнадцати.
Наиболее шумный успех молодой артист, восходящая звезда Лео Рафалеско, имел в столице Галиции – во Львове.
Во Львове издавна существует еврейский театр. Хозяин этого театра, – антрепренер то есть, – небезызвестная личность, с которой нам еще придется познакомиться. Зовут его странным именем: «Гецл бен-Гецл» [37] .
Гецл бен-Гецл, директор львовского еврейского театра, ничем не отличается от прочих директоров еврейских театров, которые кормят публику душераздирающими мелодрамами и трагедиями с громкими, кричащими названиями, как, например: «Шминдер Беглец на Аутодафе», «Кровавая инквизиция во времена Собесского», «Изабелла с тонкой талией» , а также другими подобными им перлами, которые сочиняются в сумерках такими разбойниками пера, как Щупак с его флигель-адъютантом Шолом-Меером Муравчиком.
Гецл бен-Гецл не любит нового репертуара и современных пьес. Только в последнее время он начал кое-когда ставить «литературные» пьесы, вроде «Хинке-Пинке» [38] , «Шлойма Горгл», «Скачи в постель» или «Велвеле ест компот». Но не всегда можно ставить «литературные» пьесы. Нельзя слишком баловать публику. Ведь ей что ни подай, она все равно будет пальчики облизывать, кричать во всю глотку «браво» и неистовствовать.
После первого же знакомства с Гецл бен-Гецлом Гольцман заметил, что этот чурбан Иокл бен-Флекл [39] , – так он окрестил его, – даже в подметки не годится Щупаку. Отроду не встречал он еще такой дубины. Легче перенести город Львов на другое место, чем добиться чего-нибудь от этого верблюда.
Но Гольцман и сам отличался упрямством. Для него это уже было не столько делом расчета, сколько вопросом самолюбия, амбиции. Поэтому-то он и позволил этому бревну, этому эксплуататору так прижать себя, пошел на такие условия, на какие он при других обстоятельствах не согласился бы ни в коем случае, разве только если бы рехнулся.
Когда контракт на первые три спектакля был уже подписан и оба директора пошли в «реставрацию» [40] закусить и выпить, Гольцман совершенно серьезным тоном спросил своего компаньона:
– Скажите, пожалуйста, мой дорогой Иокл бен-Флекл, не случалось ли когда-нибудь, чтобы к вам во Львов ненароком забрела холера?
– До сих пор бог миловал. А что?
– Жаль. Была бы хоть какая-нибудь надежда избавиться от вас…
Это замечание Гольцмана не испортило отношений между директорами. Придя в еврейскую «реставрацию», они выпили по рюмочке хорошего вина, закусили гусиной печенкой и еще кой-чем, закурили дешевые сигары «Трафик», и между ними завязалась самая дружеская беседа. Но когда пришло время расплачиваться за завтрак, Гецл бен-Гецл, как бы вдруг спохватившись, что у него нет при себе ни единого геллера, пытался потихоньку улизнуть из ресторана. Однако Гольцман удержал его:
– Пане директор! Зачем вам утруждать себя? Директору, имеющему театр в таком городе, как Львов, не подобает уходить через черный ход.
Но Гольцман допекал директора не только словами. Он хорошо знал, что после первых же гастролей Рафалеско Гецл бен-Гецлу будет нанесен такой удар, что он запомнит его на всю жизнь, и Гольцман не ошибся.
Во Львове, как и всюду, Рафалеско с первого же выступления безраздельно завладел публикой. Львовские театралы, которые по своим вкусам не так уж далеко ушли от голенештинской публики, не могли отдать себе отчета, чем, собственно, так пленил их Рафалеско. Кажется, такой простой, такой безыскусственный, такой обыкновенный актер, спокойный, тихий, задушевный, – не поет, не пляшет, действует только силой слова, – и все же такой необыкновенный! Каждый шаг, каждое движение, каждое слово его – просты и естественны. И говорит он как будто не так, как принято говорить на сцене, совсем не как актер, а как обыкновенный человек, как мы с вами. И все-таки – странное дело! – хочется смотреть и слушать только его одного, потому что остальные рядом с ним – куклы, манекены, движущиеся чурбаны.
– Кто он и откуда взялся? – спрашивали и допытывались в публике.
– Бог его ведает! Какой-то Рафалеско из Бухареста.
Это было в первый вечер. Ко второму спектаклю театр был битком набит, а на третий уже нельзя было достать билетов. В зале буквально яблоку негде было упасть. Гецл бен-Гецл преследовал Гольцмана по пятам и с трудом упросил его остаться со своей труппой еще хоть на три гастроли. Оба директора, несомненно, от всей души желали как можно скорее избавиться один от другого. Но оба, как истые дипломаты, хранили про себя свои тайные замыслы, старались перехитрить, обмануть и околпачить друг друга.
Глава 49
Генриетта Швалб
Гецл бен-Гецл наблюдал, как глупая публика, словно стадо овец, валит и валит в его театр, платя кровные денежки за то, чтобы хоть раз увидеть и услышать этого «пустозвона». Надо иметь железные нервы, чтобы спокойно все это переносить! И хотя три четверти всей выручки шли по договору в его карман, каждый лишний гульден, вырученный кассой, причинял ему боль, стоил ему здоровья. С мрачным видом злодея сидел он в кассе, глядя, как толпа беснуется и с боя берет билеты. Спросите их, что они там нашли хорошего!.. Когда были распроданы билеты на все места, включая и запасные стулья, и театр был битком набит, хоть задохнись, Гецл бен-Гецл также решил полюбопытствовать, «чем глупые люди тешатся».
Он смотрел в зал из-за кулис и снова видел перед собой «глупых людей», которые млели от восторга, облизывали пальчики и неистово аплодировали. Голова у него закружилась – не от игры Рафалеско (на него он и не смотрел), а от переполненного зала. Дух захватило… С тех пор как он стал директором театра, он не запомнит такого сбора… Если его театр и вправду обязан таким успехом этому молодому человеку из Бухареста, то надо постараться переманить его к себе во что бы то ни стало… Но как к нему подступиться? Предложить ему сразу бешеную цену – такую, чтобы чертям стало тошно? А что если он, этот олух, возьмет да расскажет обо всем своему директору? Будет крупный скандал. Пристанет этот Гольцман, жизни будешь не рад. Кому охота попасть к нему на язычок? Нет, у Гецл бен-Гецла другой план: он возьмет юного артиста на прицел из другого оружия, – постарается воздействовать на него через свою новую примадонну Генриетту Швалб.