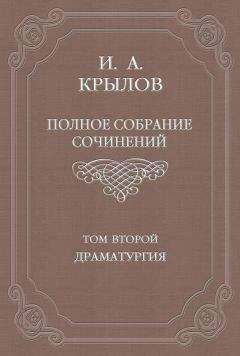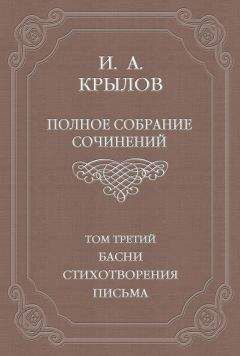Толстой Л.Н. - Полное собрание сочинений. Том 90
Хорунжий был бледен и путался. Кирка слез и пошел туда; осмотрев, я, согнувшись, пошел за ним. Только что мы подползли к стрелявшим казакам, две пули просвистели над нами. Кирка, смеясь, оглянулся на меня и пригнулся. — «Еще застрелют, ваше благородие», — сказал он. Но мне хотелось непременно посмотреть их. Из-за бугра я увидал шагах в двухстах шапки и лошади. И дымок оттуда. Они сидели под горой, в болотце. Это дикое, голое без [1 неразобр.] место было именно то, [1 неразобр.] чувство, что ознаменовалось [?] это место. Кирка вернулся, и я за ним. — «Надо арбу взять с сеном, — сказал он, — а то так дурно перебьют». Хорунжий слушал его. Воз сена был привезен, и казаки на себе, закрываясь им, стали выдвигать его. Я въехал на гору, откуда мне всё было видно. В лощине завиднелись дымки и зашлепали по возу. Казаки двигали. Чеченцы — их было девять — сидели рядом, колено с коленом, и запели песню (сначала они ругались). Вдруг казаки бросились с гиком. К[ирка] был впереди всех. Несколько выстрелов, крик, стон, и кровь, мне показалось. Какой-то ужас застлал мне глаза. Всё кончилось, я подъехал. Кирка, бледный, как платок, держал за руки чеченца раненого и кричал: — «Не бей, живого возьму». Он крутил ему руки. Чеченец вырвался и выстрелил из пистолета. Кирка упал в крови. Эти чеченцы рыжие, к[оторые] минуты тому назад были чужие, неприступные, лежали тут убитые и раненые. Один был жив. У каждого было свое выражение. Все были — люди особенные. Казаки, запыхавшись, растаскивали. Кирку понесли, и я уехал. Он всё бранился по-татарски. — «Повесят дьявола, жаль, что от моей руки ушел», потом он замолк от слабости.
Вечером мне сказали, что Кирка при смерти — но татарин из-за реки травами взялся лечить. Тела стаскали к станичному правленью, и бабы и мальчишки толпились смотреть на них. На другое утро уже Марьяна ходила из дома в клеть, убираясь. Мать ушла на виноград. Отец был в правленьи. Я пошел к ней. Она была в хате и сидела спиной. Я думал, что она стыдилась.
«М[арьяна], — сказал я, — а, М[арьяна], что, можно войти к тебе?» Вдруг она обернулась, на глазах были слезы чуть заметно, на лице была красивая глубокая печаль, но не contorsion.100 Слезы вышли с трудом. Она посмотрела молча. Прелестно-величаво. Я повторил что-то. — «Оставь», и слезы полились. — «О чем ты? Что?» — «Что? — отвечала она, — казаков перебили», — «Кирку?» — сказал я. — «Уйди, что тебе! Никогда ничего тебе не будет от меня. Уйди, постылой». И она сама встала и ушла. <Она два раза ходила к Кирке. Я тоже ходил к нему. К нему приводили уставщика, у него жар. Татарин, с мудрым лицом, с засученными рукавами, копает какие-то травы и говорит, что он выздоровеет. Никто не удивляется, что М[арьяна] стоит у ворот и плачет.>
[Далее, под чертой, набросан план следующей части романа:]
КИРКА
<Прошло пять недель. К[ирка] выздоравливает. Татарин сдержал слово. Старуха мать уговаривала его жениться и бросить мирскую жизнь, он согласился и женился.
Худой, бледный, насилу ходит.
Епишка рассказывает, как его уговаривали, и балалайку он не отдал.
Переходи ко мне на двор, как уйдут казаки.>
Проводы.Кирка повеселел — он уже женат. Небрежно.
Письмо.Она ходит к матери. Я влюблен <без памяти> еще больше, она кокетничает, чтобы исправить дело Кирки. Я думал, что нашел правду, нет, красота пришла и сломала всё. Я на всё готов. Ерошка говорит, что теперь, что я мол [?] говорил, что ты дурочка. Я поймал ее за станицей и ходил к ней. Что будет, я не знаю; но я жить не могу без нее.101
* О ЖИЗНИ
[Чт]о значит это удивительное явление самоубийства?
[Ж]ивотное, то существо, вся деятельность которого [в]102 сохранении и усилении своей жизни, убивает само себя. Люди, не признающие в человеке никакой другой основы жизни, кроме животной, произносят такие удивительные, бессмысленные слова: человек-животное убил сам себя. Ведь если основа жизни человека только животная, то сказать: человек убил сам себя, всё равно что сказать: стакан сам разбил себя. Но мы видим, как люди убивают сами себя, сами знаем про себя, что каждый из нас может убить сам себя, и нисколько не удивляемся этому.103 Мы знаем, что это возможно, потому что ни на мгновенье не перестаем чувствовать, что жизнь (истинная жизнь наша) всегда в нашей власти, и мы не столько знаем это мысленно, но опытом знаем это, потому что во всё временное продолжение нашей жизни только и делаем, что убиваем и воскрешаем себя. Убийство себя из пистолета есть только104 один из случаев самоубийства, при котором смерть животного совпадает с умиранием разумного сознания. И в этом отношении смерти на войне, в драке, на дуэли ничем не отличаются от самоубийства. Самоубийство не есть убиванье своего животного — убивание своего животного так же часто совпадает с самоубийством, как и с проявлением высшей степени жизни;105 самоубийство есть106 ложь заблуждения. И[оан.] 8, 44. Ваш отец дьявол, — сказал. Иисус иудеям, утверждавшим, что они семя Авраама и никогда не были рабами..............107 когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи.
Эта самоубийственная ложь есть признание своей разумной жизни жизнью животной.
Ложь и заблуждение в том, что человек, признав своей жизнью жизнь животного, начавшуюся с рождением и имеющую кончиться телесной смертью, не только не видит проявления своей истинной жизни, вовсе несовпадающего с рождением, а обнаруживающегося гораздо после, но это-то зарождение своей истинной жизни принимает за нарушение своей жизни.
«ПАТРИОТИЗМ ИЛИ МИР»
№ 1 (рук. № 1).
Solsbury на что[-то] не согласился, Клив[ленд] написал послание, и случилось всё, что вы знаете, и явилась возможность войны, <такая очевидная, что владетели денег испугались> такая вероятность ее, что108 на биржах городов обоих государств потеряны миллиарды, и принц, Гладстон, литераторы, эпископы написали послания, и войны на этот раз как будто не будет.
Два гладиатора, воспитанные с детства на том, чтобы насмерть драться за победу, сошлись, смерили друг друга глазами и готовы были начать... но их развели, и все успокоились. И я понимаю, что успокоились те, которые воспитывали гладиаторов и содержат их: они знают, что теперь эта борьба не нужна и отложили ее до другого раза. И они поступили разумно и благоразумно. Но не так поступают те, которые с точки зрения человечности, христианства участвовали в остановке этой борьбы, как это делали частные люди — литераторы, духовные лица, как это бы сделал я, если бы исполнил ваше желание и подал свой голос. Все честные люди, мы уговариваем эти два народа остановиться и не драться теперь, еще особенно потому, что эти два, говорящие на одном языке, родственные народа поступили бы нелепо, и те, которые писали, уговаривая стороны, делали — да простят они меня — сметную глупость. Ведь как гладиаторы воспитаны для драки, и если они разведены, то только на время, и завтра, послезавтра будут драться, может быть, еще хуже, чем бы подрались нынче. Все условия для того, чтобы они дрались, остались те же. То же и с народами Америки и Англии. Надо иметь слишком мало perspicacité,109 чтобы не видеть, что всё то, что ведет к войне, всегда готово — и не одна Венецуэла, а тысячи других причин могут произвести то же. Причина одна, известная: патриотизм. Люди воспитаны в том, что для англичан радостно, что Англия богаче, сильнее, для американцев то же относительно Америки. И пока это будет, будет война.
Мне случалось говорить про патриотизм, указывая на его несовместимость с христианством. И всегда я встречал один ответ. Патриотизм дурной — да, но есть хороший. В чем же хороший, никто не сказал. Как будто патриотизм так же, как и эгоизм, может быть хороший и согласный с человеч[ностью] и христианством. Положим, нынче не будет войны и разведут бойцов, но разве не останутся те же войска, те же профессора, восхваляющие славу отечества, те же газеты. Прочтите газеты русские, английские, немецкие, разве это не постоянное натравливание одних на других. Если и встречается увещание к миру и дружбе, то только для того, чтобы быть сильнее против общего врага. При таком складе жизни не может быть мира. Латентная, скрытая война не перестает и не может не разразиться. Для того, чтобы не было войны, нужно не уговаривать English speaking nations110 быть в дружбе, а нужно уничтожить патриотизм, а чтобы уничтожить патриотизм, надо прежде всего уничтожить фарисейство. Если бы люди говорили: я люблю только себя, свою семью или Англию и желаю погибели всего, только бы благоденствовали я и Англия, и еще бы то же говорили американцы, тогда бы можно было уничтожить зло войны, оно видно бы было, а теперь это скрытая болезнь, и лицемеры старательно скрывают ее. Скажите людям, что война дурно, они засмеются: кто же этого не знает? Скажите, что патриотизм дурно: о да, завоевательный патриотизм дурно. Но какой же хороший? Да вот тот, какого мы держимся. Как будто может быть какой-нибудь патриотизм, если не завоевательный, то удержательный. И вот пока это будет, пока зло будут выдавать за добро, будет война нынче, завтра и нельзя будет остановить ее. Для того, чтобы не было войны, нужно прежде всего, чтобы всякий патриотизм был признан злом, постыдным делом, несовместимым с истинным просвещением и христианством. Только тогда возможно будет бороться с ним и воспитывать людей не в уважении к нему, не в желании славы, силы, богатства России, Англии, Америке, а в желании блага людям, в желании осуществления царства божия на земле. Не будет войны не тогда, когда мы будем говорить туманные фразы о каком-то безвредном и нравственном патриотизме, а когда будем понимать и так воспитаем молодое поколение, что стыдно будет желать блага своему народу предпочтительно перед другим, что как теперь мы считаем, что неприлично столкнуть с тротуара идущего человека, неприлично отнять у человека нужную ему вещь, а прилично уступить дорогу, дать то, что нужно, другому, так же мы будем считать неприличным желать англичанину Англии или американцу Америки больше Венецуэлы, и как теперь мы рады случаю лишить себя и услужить другому, так мы будем рады в ущерб своей народности услужить другой.