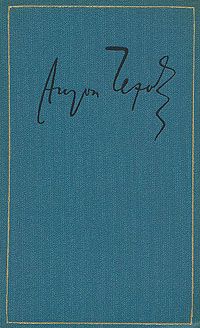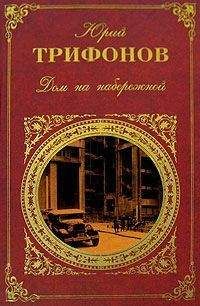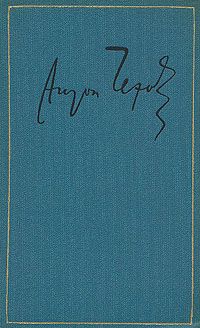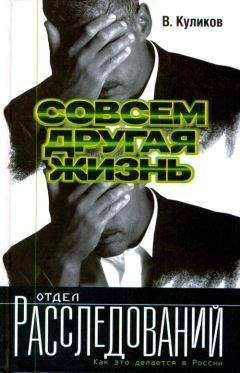Антон Чехов - Рассказы. Повести. 1892-1894
– Почему же это для вас решительно всё равно? – спросил я.
– Потому что мне скучно. Вам бывает скучно только без вашего друга, а мне всегда скучно. Впрочем… это для вас не интересно.
Я сел за рояль и взял несколько аккордов, выжидая, что она скажет.
– Вы, пожалуйста, не церемоньтесь, – сказала она, сердито глядя на меня и точно собираясь заплакать с досады. – Если вам хочется спать, то уходите. Не думайте, что если вы друг Дмитрия Петровича, то уж обязаны скучать с его женой. Я не хочу жертвы. Пожалуйста, уходите.
Я не ушел, конечно. Она вышла на террасу, а я остался в гостиной и минут пять перелистывал ноты. Потом и я вышел. Мы стояли рядом в тени от занавесок, а под нами были ступени, залитые лунным светом. Через цветочные клумбы и по желтому песку аллей тянулись черные тени деревьев.
– Мне тоже нужно уезжать завтра, – сказал я.
– Конечно, если мужа нет дома, то вам нельзя оставаться здесь, – проговорила она насмешливо. – Воображаю, как бы вы были несчастны, если бы влюбились в меня! Вот погодите, я когда-нибудь возьму и брошусь вам на шею… Посмотрю, с каким ужасом вы побежите от меня. Это интересно.
Ее слова и бледное лицо были сердиты, но ее глаза были полны самой нежной, страстной любви. Я уже смотрел на это прекрасное создание, как на свою собственность, и тут впервые я заметил, что у нее золотистые брови, чудные брови, каких я раньше никогда не видел. Мысль, что я сейчас могу привлечь ее к себе, ласкать, касаться ее замечательных волос, представилась мне вдруг такою чудовищной, что я засмеялся и закрыл глаза.
– Однако уже пора… Спокойной ночи, – проговорила она.
– Я не хочу спокойной ночи… – сказал я, смеясь и идя за ней в гостиную. – Я прокляну эту ночь, если она будет спокойной.
Пожимая ей руку и провожая ее до двери, я видел по ее лицу, что она понимает меня и рада, что я тоже понимаю ее.
Я пошел к себе в комнату. На столе у меня около книг лежала фуражка Дмитрия Петровича, и это напомнило мне об его дружбе. Я взял трость и вышел в сад. Тут уж подымался туман, и около деревьев и кустов, обнимая их, бродили те самые высокие и узкие привидения, которых я видел давеча на реке. Как жаль, что я не мог с ними говорить!
В необыкновенно прозрачном воздухе отчетливо выделялись каждый листок, каждая росинка – всё это улыбалось мне в тишине, спросонок, и, проходя мимо зеленых скамей, я вспоминал слова из какой-то шекспировской пьесы: как сладко спит сияние луны здесь на скамье!
В саду была горка. Я взошел на нее и сел. Меня томило очаровательное чувство. Я знал наверное, что сейчас буду обнимать, прижиматься к ее роскошному телу, целовать золотые брови, и мне хотелось не верить этому, дразнить себя, и было жаль, что она меня так мало мучила и так скоро сдалась.
Но вот неожиданно послышались тяжелые шаги. На аллее показался мужчина среднего роста, и я тотчас же узнал в нем Сорок Мучеников. Он сел на скамью и глубоко вздохнул, потом три раза перекрестился и лег. Через минуту он встал и лег на другой бок. Комары и ночная сырость мешали ему уснуть.
– Ну, жизнь! – проговорил он. – Несчастная, горькая жизнь!
Глядя на его тощее, согнутое тело и слушая тяжелые, хриплые вздохи, я вспомнил еще про одну несчастную, горькую жизнь, которая сегодня исповедалась мне, и мне стало жутко и страшно своего блаженного состояния. Я спустился с горки и пошел к дому.
«Жизнь, по его мнению, страшна, – думал я, – так не церемонься же с нею, ломай ее и, пока она тебя не задавила, бери всё, что можно урвать от нее».
На террасе стояла Мария Сергеевна. Я молча обнял ее и стал жадно целовать ее брови, виски, шею…
В моей комнате она говорила мне, что она любит меня уже давно, больше года. Она клялась мне в любви, плакала, просила, чтобы я увез ее к себе. Я то и дело подводил ее к окну, чтобы посмотреть на ее лицо при лунном свете, и она казалась мне прекрасным сном, и я торопился крепко обнять ее, чтобы поверить в действительность. Давно уж я не переживал таких восторгов… Но все-таки далеко, где-то в глубине души я чувствовал какую-то неловкость и мне было не по себе. И ее любви ко мне было что-то неудобное и тягостное, как в дружбе Дмитрия Петровича. Это была большая, серьезная любовь со слезами и клятвами, а я хотел, чтобы не было ничего серьезного – ни слез, ни клятв, ни разговоров о будущем. Пусть бы эта лунная ночь промелькнула в нашей жизни светлым метеором – и баста.
Ровно в три часа она вышла от меня и, когда я, стоя в дверях, смотрел ей вслед, в конце коридора вдруг показался Дмитрий Петрович. Встретясь с ним, она вздрогнула и дала ему дорогу, и во всей ее фигуре было написано отвращение. Он как-то странно улыбнулся, кашлянул и вошел ко мне в комнату.
– Тут я забыл вчера свою фуражку… – сказал он, не глядя на меня.
Он нашел и обеими руками надел на голову фуражку, потом посмотрел на мое смущенное лицо, на мои туфли и проговорил не своим, а каким-то странным, сиплым голосом:
– Мне, вероятно, на роду написано ничего не понимать. Если вы понимаете что-нибудь, то… поздравляю вас. У меня темно в глазах.
И он вышел, покашливая. Потом я видел в окно, как он сам около конюшни запрягал лошадей. Руки у него дрожали, он торопился и оглядывался на дом; вероятно, ему было страшно. Затем он сел в тарантас и со странным выражением, точно боясь погони, ударил по лошадям.
Немного погодя уехал и я сам. Уже восходило солнце и вчерашний туман робко жался к кустам и пригоркам. На козлах сидел Сорок Мучеников, уже успевший где-то выпить, и молол пьяный вздор.
– Я человек вольный! – кричал он на лошадей. – Эй, вы, малиновые! Я потомственный почетный гражданин, ежели желаете знать!
Страх Дмитрия Петровича, который не выходил у меня из головы, сообщился и мне. Я думал о том, что случилось, и ничего не понимал. Я смотрел на грачей, и мне было странно и страшно, что они летают.
– Зачем я это сделал? – спрашивал я себя в недоумении и с отчаянием. – Почему это вышло именно так, а не иначе? Кому и для чего это нужно было, чтоб она любила меня серьезно и чтоб он явился в комнату за фуражкой? Причем тут фуражка?
В тот же день я уехал в Петербург, и с Дмитрием Петровичем и его женой уж больше ни разу не виделся. Говорят, что они продолжают жить вместе.
Рассказ неизвестного человека
I
По причинам, о которых не время теперь говорить подробно, я должен был поступить в лакеи к одному петербургскому чиновнику, по фамилии Орлову. Было ему около тридцати пяти лет и звали его Георгием Иванычем.
К этому Орлову поступил я ради его отца, известного государственного человека, которого считал я серьезным врагом своего дела. Я рассчитывал, что, живя у сына, по разговорам, которые услышу, и по бумагам и запискам, какие буду находить на столе, я в подробности изучу планы и намерения отца.
Обыкновенно часов в одиннадцать утра в моей лакейской трещал электрический звонок, давая мне знать, что проснулся барин. Когда я с вычищенным платьем и сапогами приходил в спальню, Георгий Иваныч сидел неподвижно в постели, не заспанный, а скорее утомленный сном, и глядел в одну точку, не выказывая по поводу своего пробуждения никакого удовольствия. Я помогал ему одеваться, а он неохотно подчинялся мне, молча и не замечая моего присутствия; потом, с мокрою от умыванья головой и пахнущий свежими духами, он шел в столовую пить кофе. Он сидел за столом, пил кофе и перелистывал газеты, а я и горничная Поля почтительно стояли у двери и смотрели на него. Два взрослых человека должны были с самым серьезным вниманием смотреть, как третий пьет кофе и грызет сухарики. Это, по всей вероятности, смешно и дико, но я не видел для себя ничего унизительного в том, что приходилось стоять около двери, хотя был таким же дворянином и образованным человеком, как сам Орлов.
У меня тогда начиналась чахотка, а с нею еще кое-что, пожалуй, поважнее чахотки. Не знаю, под влиянием ли болезни, или начинавшейся перемены мировоззрения, которой я тогда не замечал, мною изо дня в день овладевала страстная, раздражающая жажда обыкновенной, обывательской жизни. Мне хотелось душевного покоя, здоровья, хорошего воздуха, сытости. Я становился мечтателем и, как мечтатель, не знал, что собственно мне нужно. То мне хотелось уйти в монастырь, сидеть там по целым дням у окошка и смотреть на деревья и поля; то я воображал, как я покупаю десятин пять земли и живу помещиком; то я давал себе слово, что займусь наукой и непременно сделаюсь профессором какого-нибудь провинциального университета. Я – отставной лейтенант нашего флота; мне грезилось море, наша эскадра и корвет, на котором я совершил кругосветное плавание. Мне хотелось еще раз испытать то невыразимое чувство, когда, гуляя в тропическом лесу или глядя на закат солнца в Бенгальском заливе, замираешь от восторга и в то же время грустишь по родине. Мне снились горы, женщины, музыка, и с любопытством, как мальчик, я всматривался в лица, вслушивался в голоса. И когда я стоял у двери и смотрел, как Орлов пьет кофе, я чувствовал себя не лакеем, а человеком, которому интересно всё на свете, даже Орлов.