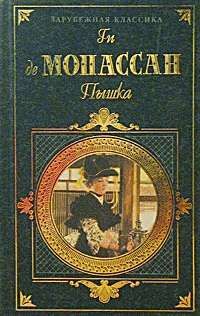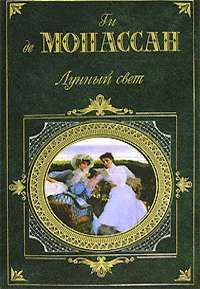Ги Мопассан - Сильна как смерть
Она не смогла бы выразить словами то, о чем просила, — настолько еще неясными и смутными были ее опасения, — но она чувствовала, что нуждается в божественной помощи, в чудотворной защите от надвигающихся опасностей и неизбежных страданий.
Аннета, тоже прошептав обычные молитвы, с закрытыми глазами о чем-то думала, не желая вставать с колен раньше матери.
Оливье Бертен смотрел на них и любовался чудесной картиной; ему даже было жаль, что он не может сделать набросок.
На обратном пути они заговорили о жизни человека, медленно перебирая те горькие и поэтические мысли, мысли трогательные и трагические, что часто служат темой для разговора между мужчинами и женщинами, которых жизнь ранит и сердца которых сливаются в общей печали.
Анкета еще не созрела для такого рода мыслей и оттого поминутно отбегала на край дороги и рвала полевые цветы.
Но Оливье очень хотелось побыть с ней, он нервничал, видя, что она то и дело отходит от него, и не спускал с нее глаз. Его злило, что окраской цветов она интересуется больше, нежели тем, о чем он говорит. Ему было очень обидно, что он не может взять ее в плен, подчинить себе так же, как ее мать, и ему хотелось протянуть руку, схватить ее, удержать, запретить ей уходить. Он чувствовал, что она слишком подвижна, слишком молода, слишком равнодушна, слишком свободна, свободна, как птица, как молодая собака, которая не слушается и не идет на зов, у которой в крови независимость, прекрасный инстинкт свободы, еще не побежденный ни окриком, ни хлыстом.
Чтобы вызвать у нее интерес, он заговорил о вещах более веселых, задавал ей вопросы, пытаясь пробудить в ней женское любопытство и желание слушать; но можно было подумать, что сегодня в голове Аннеты, как в бескрайнем поднебесье, как над волнующейся нивой, гулял своевольный ветер, уносивший ее внимание и развеивавший его в пространстве: подбежав к ним, она бросала ему в ответ, которого он ждал от нее, какую-нибудь банальную фразу, рассеянный взгляд и снова возвращалась к своим цветам В конце концов, подстрекаемый ребяческим нетерпением, он вышел из себя и, когда она подошла к матери и попросила ее подержать букет, чтобы она могла нарвать другой, он поймал ее за руку и крепко сжал локоть, чтобы она не могла снова ускользнуть. Она со смехом отбивалась и вырывалась изо всех сил; тогда его мужской инстинкт подсказал ему средство, к которому прибегают слабые духом: видя, что заинтриговать ее он не может, он стал подкупать ее, играя на ее кокетстве — Назови мне, — обратился он к ней, — твой любимый цветок, и я закажу тебе такую же брошку.
— Брошку? Как это? — в недоумении спросила она.
— Из камней того же цвета: если это мак, то из рубинов, если василек — из сапфиров с маленьким листочком из изумрудов.
Лицо Аннеты озарилось той благодарной радостью, какою оживляют женские лица обещания и подарки — Василек, — сказала она. — Это такой милый цветочек!
— Василек так василек! Вернемся в Париж, пойдем и закажем.
Больше она не отходила от них, привлеченная к нему мыслью о драгоценности, которую уже старалась вообразить, представить себе.
— А много времени надо, чтобы сделать такую вещь? — спросила она.
Он засмеялся, понимая, что она попалась на удочку.
— Не знаю; все зависит от того, насколько сложная это работа. Мы поторопим ювелира.
Внезапно ее поразила прискорбная мысль:
— Но я не смогу ее носить: ведь я же в глубоком трауре!
Он взял девушку под руку и прижал ее к себе.
— Ну что же, ты подождешь, пока кончится траур; это не помешает тебе любоваться твоей брошкой.
Как и вчера вечером, он шел между ними, держа их под руку, зажатый, стиснутый их плечами, и, чтобы видеть, как они поднимают на него свои одинаково голубые глаза, испещренные черными точечками, он заговаривал с каждой поочередно, поворачивая голову то к одной, то к другой. Их освещало яркое солнце, так что теперь он уже не мог смешивать графиню с Аннетой, но все больше и больше смешивал дочь с возрождающимся воспоминанием о той женщине, какой некогда была мать. Ему хотелось поцеловать их обеих: одну — чтобы снова ощутить на ее щеках и затылке ту розовую и белокурую свежесть, какою он наслаждался когда-то и чудесное возвращение которой вновь увидел сегодня; другую — потому что все еще любил ее и чувствовал властный призыв старой привычки. Он замечал сейчас и понимал, что его страсть к графине, давно уже угасавшая, и его нежность к ней оживали при виде ее воскресшей молодости.
Аннета опять ушла рвать цветы. Оливье больше не звал ее, словно прикосновение ее руки и радостное сознание того, что он доставил ей удовольствие, успокоили его; но он следил за всеми ее движениями с тем наслаждением, какое мы испытываем при виде существ или предметов, которые пленяют и чаруют наш взор. Когда она возвращалась с целой охапкой цветов, он начинал дышать глубже, бессознательно стараясь уловить нечто, исходившее от нее: частицу ее дыхания или теплоты ее тела в воздухе, всколыхнувшемся от ее бега. Он смотрел на нее с тем восторгом, с каким смотрят на утреннюю зарю, с каким слушают музыку, и чувствовал сладостную дрожь, когда она нагибалась, когда она выпрямлялась, поднимая обе руки, чтобы привести в порядок прическу. И час от часу сильнее и сильнее вызывала она в нем память былого! Ее смех, ее шалости, ее движения вызывали у него на губах вкус поцелуев, которые он когда-то получал и возвращал; она превращала далекое прошлое, полное ощущение которого он давно утратил, в нечто похожее на преображенное мечтой настоящее; она спутывала времена, числа, годы жизни его души и, вновь зажигая охладевшие чувства, незаметно для него сливала вчерашний день с завтрашним, воспоминания с надеждой.
Роясь в памяти, он спрашивал себя: обладала ли графиня в самом пышном своем расцвете этой гибкой прелестью козочки, этой смелой, капризной, неотразимой прелестью, напоминающей грацию бегающего и прыгающего животного? Нет. В ней было больше пышности и меньше дикости. Сперва городская девушка, затем городская женщина, она никогда не впивала воздух полей, не дышала запахом трав, и хорошела она в тени стен, а не, под небом, залитым солнцем.
Когда они вернулись в усадьбу, графиня села писать письма за низенький столик у окна; Аннета поднялась к себе в комнату, а художник, с сигарой во рту, снова вышел из дому и, заложив руки за спину, медленно зашагал по извилистым дорожкам парка. Но он не уходил далеко, чтобы не потерять из виду белый фасад и островерхую крышу дома. Как только дом исчезал за купами деревьев, за густым кустарником, на душе у него становилось сумрачно, как это бывает, когда облако закрывает солнце; но стоило дому снова показаться в просветах листвы, как Бертен останавливался и смотрел на два ряда верхних окон. Потом опять шел дальше.
Он был возбужден, но доволен. Чем же? Всем.
Сегодня воздух казался ему чистым, а жизнь — прекрасной. Он снова чувствовал в теле мальчишескую легкость, ему хотелось бегать и ловить желтых бабочек, мелькавших в воздухе над лужайкой, словно они были подвешены на резинках. Он напевал арии из опер. Несколько раз повторял он знаменитую фразу Гуно: «О, позволь, ангел мой, на тебя наглядеться!» — находя в ней глубоко нежную выразительность, которую прежде никогда так остро не чувствовал.
Неожиданно он задал себе вопрос: как могло случиться, что он так быстро изменился? Еще вчера, в Париже, он был недоволен всем на свете, все ему надоело, все раздражало, а сегодня он спокоен, и все у него хорошо, словно некий благоволивший к нему бог заменил его душу новой. «Этому доброму богу, — подумал он, — не мешало бы заодно обновить и тело и сделать меня помоложе».
Вдруг он заметил в чаще Джулио, который за кем-то охотился. Он подозвал его, и, когда пес подбежал к нему и сунул ему под руку свою изящную голову с длинными, мохнатыми ушами, он сел на траву — так ему удобнее было гладить его, — начал говорить ему ласковые слова, положил его голову к себе на колени и расчувствовался при этом так, что поцеловал его, как будто пес был женщиной, сердце которой готово растрогаться в любую минуту.
Послеобеденное время — вместо того, чтобы пойти гулять, как накануне, — они провели по-семейному, в гостиной.
— Однако нам скоро придется уехать, — неожиданно сказала графиня.
— О, не говорите сейчас об этом! — воскликнул Оливье. — Вы не хотели покидать Ронсьер, пока здесь не было меня! Приехал я, и вы думаете только о том, как бы сбежать отсюда!
— Дорогой друг! Не можем же мы сидеть тут втроем до бесконечности, — заметила она.
— Речь идет отнюдь не о бесконечности, а всего лишь о нескольких днях. Сколько раз я гостил здесь по целым неделям!
— Да, но то было при других обстоятельствах, когда дом был открыт для всех. Тут вмешалась Аннета.
— Ox, мамочка, еще два-три дня! — вкрадчиво заговорила она. — Он так хорошо учит меня играть в теннис! Правда, я сержусь, когда проигрываю, зато потом бываю так довольна, что делаю успехи!