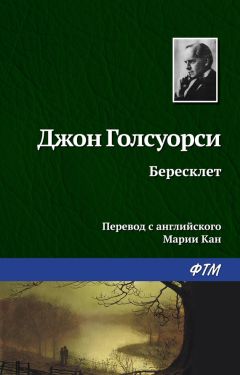Джон Голсуорси - Темный цветок
— Одна?
— Да.
— И не скучно было? Я бы на твоем месте взял себе в спутники молодого Леннана.
— Почему?
Инстинкт подсказал ей, что надо взять самый смелый тон; по ее лицу нельзя было догадаться ни о чем. Если он превосходил ее силой, она превосходила его быстротой ума.
Он опустил глаза и ответил:
— Ну, это ведь его профессия.
Пожав плечами, она повернулась и закрыла дверь. И долго сидела неподвижно на краю своей кровати. В этой схватке умов победила она, победит без труда и в других; но ей только сейчас стала до конца ясна вся мерзость ее положения. Ложь, ложь! Вот что отныне станет ее жизнью! Лгать — или же сказать «прости» всему, что ей дорого, и обречь мраку отчаяния не только себя, но и того, кто ее любит, — а во имя чего? Чтобы тело ее оставалось во власти мужчины, который стоит там, в соседней комнате, безвозвратно утратившего власть над ее душой. Таков был выбор. Если только слова: «Тогда приди ко мне» — были не просто словами. Но так ли это? Возможно ли это? Они сулят великое счастье, если — если только его любовь к ней не была лишь весенним увлечением. А ее любовь? Как знать, больше ли она, больше ли их любовь друг к другу, чем простое увлечение весны? А не зная, как причинить всем такую боль? Как нарушить клятву, которую она всегда считала позором нарушить? Как отважиться на бесповоротный разрыв со всеми традициями и убеждениями, в которых она взращена? Но в самой природе страсти есть нечто, противящееся вмешательству обдуманных и твердых решений… И внезапно Олив подумала: «Если наша любовь не сможет остаться такой, как сейчас, и если я все-таки не в состоянии буду уйти к нему навсегда, есть ведь и еще один путь…»
Она встала и начала одеваться к обеду. Стоя перед зеркалом, она подивилась тому, что на лице у нее нет и следов тех страхов и сомнений, которые сделались теперь ее неразлучными спутниками. Не потому ли это, что вопреки всему она любит и любима? Интересно, какое у нее было лицо, когда он так страстно поцеловал ее; обнаружила ли она свою радость, прежде чем оттолкнула его?
У нее в саду над рекой были такие цветы, которые, как ни ухаживала она за ними, вырастали чахлыми и не того цвета; им нужна была другая почва. Может быть, и она тоже, как те цветы? Дайте ей только нужную почву, и она распрямится, обретет верные краски!
И тут на пороге своей комнаты она увидела мужа. До этого она не испытывала к нему настоящей ненависти, но сейчас, при взгляде на него, почувствовала, что ненавидит его слепо и яростно. Что нужно от нее ему, так пристально на нее глядящему этими властными, налитыми кровью глазами, которые в одно и то же время грозят, вожделеют и молят? Она поплотнее закутала плечи шарфом. Тогда он шагнул к ней и произнес:
— Погляди на меня, Олив.
Она повиновалась, хотя все в ней восставало против этого. Он продолжал:
— Остерегись! Говорю тебе: остерегись!
Он взял ее за плечи и притянул к себе. Она, точно утратив всякую волю к сопротивлению, стояла покорно.
— Ты нужна мне, — проговорил он. — И ты останешься моею.
И вдруг, отпустив ее, прикрыл глаза ладонями. Это испугало ее больше всего: так непохоже на него это было. Только сейчас начала она понимать, между какими грозными силами она поневоле лавирует. Она не произнесла ни слова, но лицо ее стало белым. Не отнимая ладоней, он издал какой-то звук, нечленораздельный, нечеловеческий, повернулся резко и вышел. Она упала на стул перед своим туалетом, вся во власти какого-то нового, неведомого ей ощущения: словно она утратила все, даже любовь свою к Леннану, даже потребность быть любимой им. Какая цена этому, какая цена всему в таком мире? Все отвратительно, она сама отвратительна! Все пустота! Гадость, гадость! Словно у тебя вовсе нет сердца!
И в тот же вечер, когда муж ее уехал в парламент, она написала Леннану:
«Наша любовь никогда не должна обращаться в земную, как это чуть было не произошло сегодня. Все мрак и безнадежность. Он подозревает. Вам сюда приходить невозможно: для нас обоих это будет непереносимо. У меня нет права просить вас об осторожности, мне больно думать, что вы вынуждены лгать и таиться, и сама я не в силах этого сносить. Не знаю, что мне делать, что сказать. Не пытайтесь пока меня увидеть. Мне нужно время. Я должна подумать».
XIII
Полковник Эркотт не увлекался скачками, но все же, подобно большинству его соотечественников, питал религиозное почтение к Дерби. Связанные с Дерби воспоминания восходили ко дням его детства, ибо он родился и вырос чуть не у самой проезжей дороги на Эпсом. Дважды в году — в дни больших скачек — он на своем пони выезжал смотреть, как проплывают мимо цилиндры и перья великих мира сего, котелки и перья малых сих. А потом дома, на лужайке, скакал взапуски со стариной Линдсеем, назначив финиш между коровой, она же — судья, и зарослью бурьяна, долженствовавшей изображать Главную трибуну.
Но как-то получилось, что самих скачек он так ни разу в жизни и не видел, и теперь вдруг он почувствовал, что побывать на них — его долг. С некоторой робостью изложил он свое намерение миссис Эркотт. Она читала слишком много романов — кто знает, может быть, она не одобрит? Но она одобрила, и тогда он вскользь добавил:
— Мы могли бы захватить с собой Олив.
Миссис Эркотт сухо заметила в ответ:
— А что, разве в Палате Общин нет заседаний?
Полковник буркнул:
— Этот субъект мне вовсе не нужен.
— Может быть, пригласишь Марка Леннана? — отозвалась миссис Эркотт.
Полковник поглядел на жену с глубоким недоумением. Как Долли может: называет все это трагедией и… как это?.. великой страстью, и сама же предлагает подобную вещь! Но потом морщины на его лице пришли в движение, и он крепко обхватил жену за талию.
Миссис Эркотт не устояла.
— Поезжай с Олив вдвоем, — предложила она. — У меня, по правде говоря, вовсе нет охоты туда ехать.
Когда полковник заехал за племянницей, она была уже готова, и он скрепя сердце осведомился о Крэмьере. Оказалось, что она ничего не говорила мужу о поездке.
С облегчением, но слегка смущенный, полковник осведомился:
— А он не обидится, что мы едем без него?
— Если бы он поехал, я осталась бы.
При этом спокойном ответе все прежние страхи вновь одолели полковника. Он положил свой белый цилиндр и взял племянницу за руку.
— Дорогая моя, — оказал он, — я не хочу вмешиваться, но… но, может быть, я могу что-нибудь сделать? Мне мучительно видеть, что ты страдаешь!
Он почувствовал, как она поднесла его руку к своему лицу и прижалась к ней щекой. Сердце его разрывалось. Он другой рукой, затянутой в новую перчатку, погладил ее локоть и проговорил:
— Мы с тобой отлично проведем день, родная, и забудем обо всем.
Она поцеловала его руку и отвернулась. И полковник мысленно поклялся, что не допустит, чтобы она страдала — такая красивая, хрупкая, стройная и такая элегантная в этом жемчужно-сером платье. Он с трудом подавил волнение и долго яростно тер рукавом свой белый цилиндр, забыв, что на них не бывает ворса.
По дороге в Эпсом он был сама нежность: предупреждал все ее желания, рассказывал ей про Индию, советовался, на какую лошадь им лучше поставить. Можно бы, конечно, на герцогского жеребца, но есть другая лошадка, которая ему особенно по сердцу. Ему назвал ее Тейбор — тот самый Тейбор, у которого были лучшие в Индии лошади арабской породы, — и ставки очень приличные. Как всякому новичку, полковнику приятно было помечтать, чтобы выбранная им лошадь принесла ему как можно более ощутимый выигрыш, если уж ей суждено выиграть; о проигрыше он и не думал. Одним словом, надо поглядеть на нее своими глазами, и тогда уже самим судить. Надо пройти туда, где сейчас прогуливают лошадей, — там, в стороне от гама и пыли, и Олив будет лучше. Однако, добравшись до ипподрома, они не стали смотреть первые скачки: гораздо важнее было, по мнению полковника, пойти сначала перекусить. Он хотел, чтобы краски заиграли на ее лице, хотел услышать ее смех. У него был пропуск в павильон его старого полка, где шампанское подают наверняка лучшего качества. И он был горд показаться там с нею — ни на что на свете не променял бы он восторженных взглядов, которыми награждали ее все эти юнцы; хотя вообще-то приводить туда даму было против правил. Только перед самым началом вторых скачек подошли они к загону, где прогуливали лошадей, которым еще предстояло скакать. Лошади вышагивали не спеша, каждая в сопровождении отдельной свиты знатоков, скользящих взглядами по их стройным ногам и крутым бокам в попытке определить, оправдаются ли их надежды, и двух-трех любителей из тех, что просто получают удовольствие от вида хорошей лошади. Они скоро увидели лошадь, про которую говорили полковнику. Гнедая, с белой звездочкой во лбу, она прохаживалась в дальнем углу. Полковник, понимавший толк в лошадях, пришел в восхищение. Ему понравилась ее голова, понравились ее бабки, но всего более понравился ее глаз. Прелестное создание, вся ум и огонь. Разве чуть-чуть жестковата в плечах: это может помешать на склоне. И вдруг, любуясь лошадью, он поймал себя на том, что перевел взгляд на свою племянницу. Какая породистость; какие тонкие дугой брови, маленькие уши, узкие, изящные ноздри; а как она движется — уверенно, упруго. Нет, она слишком хороша, чтобы страдать! Какая подлость! Не будь она так хороша, юный Леннан в нее не влюбился бы. Не будь она так хороша собой, этот муж ее тоже не стал бы… Полковник опустил глаза, потрясенный своим случайным открытием. Не будь она так хороша собой! Значит, в этом вся суть происходящего? Циничный смысл собственного умозаключения совершенно его ошеломил. И все-таки что-то в глубине души подсказывало ему, что так оно и есть. Ну и что же? Неужели он позволит, чтобы эти двое разорвали ее пополам, погубили ее из-за того, что она так хороша? Неожиданное открытие, что страсть рождается из преклонения перед красотой и горячей кровью, перед прекрасными линиями и красками, глубоко его взволновало, ибо у него не было привычки философствовать. Мысль эта казалась ему до странности грубой, даже безнравственной. Что же она, вот так, очутилась между двумя неотступными желаниями — словно птица меж двух ястребов, яблоко меж двух ртов? Ему никогда не приходило в голову, что на вещи можно смотреть так. Он представил себе, как муж держит ее мертвой хваткой, а Леннан, который кажется таким деликатным юношей, выбирает минуту, чтобы тоже вцепиться в нее; представал себе, как, когда она отцветет, подурнеет, утратит свою красоту, их алчность, да и алчность всякого мужчины, сразу пропадет, исчезнет, — и от мыслей этих ему становилось тем больнее, что пришли они так внезапно и он был к ним так неподготовлен. Трагедия! Так сказала Долли. Странные, скорые на суждения — таковы женщины. Но потом он вспомнил свою решимость доставить ей за этот день побольше удовольствия и поспешил снова заняться рассматриванием приглянувшейся им лошади. Пожалуй, можно поставить на нее десять фунтов, и пора как будто бы поторопиться назад на трибуну. Они направились туда, и полковник обратил внимание на стоящего под деревом человека — он готов был поклясться, что это Леннан. Хотя, конечно, какой художник станет ездить на скачки? Но тем не менее это и в самом деле был молодой Леннан, одетый тщательно и в цилиндре. К счастью, он смотрел в другую сторону. Полковник ничего не сказал Олив, ему не хотелось — тем более, с такими, как у него, мыслями — брать на себя ответственность, и он повел ее ко входу, радуясь собственной зоркости. Там в давке ее на минуту от него оттерли, но вскоре она уже опять была подле него; и он еще больше возрадовался тому, что не произошло ничего такого, что могло бы расстроить Олив и испортить ей день. Щеки ее теперь горели, в глазах появился блеск. Она была возбуждена, без сомнения, мыслями о предстоящей скачке и о «десятке», которую он собирался за нее поставить.