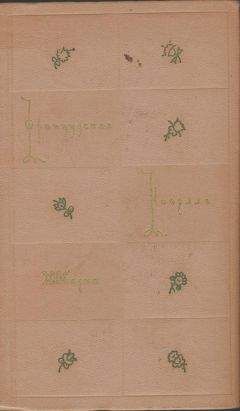Альфонс Доде - Евангелистка
Искренне преданная тебе дочь Элина Эпсен.
В первую минуту г-жа Эпсен ничего не поняла и перечла письмо вслух, медленно, фразу за фразой, до самой подписи… Элина… Неужели это писала Элина, ее дитя, ее маленькая Лина?.. Не может быть!.. Однако почерк, правда, не совсем твердый, очень походил на почерк ее дочери… Ну, так и есть, эти помешанные ханжи водили ее рукой, диктовали ей каждое слово, не могла же сама Лина написать такое бесчеловечное письмо… Но откуда же оно пришло? На марке штемпель Пти-Пора!.. Господи! Значит, Лина все еще там, надо только поехать туда и отговорить дочку от ее безрассудного решения… Но все — таки какая жестокость, как они посмели отнимать у матери ее дитя, ее опошаемую Линетту!.. Какая выгода этой подлой г-же Отман разбивать сердца, разлучать семьи?.. Ну, пусть только попробует, мы еще посмотрим!
Громко разговаривая сама с собой и сопровождая свои слова гневными жестами, г-жа Эпсен наскоро причесалась, освежила лицо, заплаканное, опухшее после бессонной ночи, и собралась в дорогу. Купив билет и заняв место в вагоне, она несколько успокоилась и начала припоминать по порядку, каким образом эта вероломная евангелистка постепенно опутала, заманила Элину в свою секту; припомнила первый визит Анны де Бейль, бесцеремонные расспросы об их знакомствах в Париже — вероятно, она хотела удостовериться, что с ними можно действовать безнаказанно; потом молитвенное собрание на авеню Терн, где ее дочь стояла на эстраде рядом с помешанной англичанкой… Боже, как это было ужасно!.. И, наконец, коварный вопрос г-жи Отман, приехавшей нанимать Элину в свои школы: «Вы очень любите вашу дочь?..»-ее холодный, властный голос, ее красивый рот с поджатыми губами.
Как она могла не замечать этого раньше? Какое ослепление, какое недомыслие! Она сама, она одна виновата во всем. Элина вовсе не дорожила переводами, религиозными бреднями, постепенно отравившими ей душу, она даже не хотела ехать на молитвенное собрание. Мать настаивала на этом из корысти, из тщеславия, желая завязать знакомство с Отманами, влиятельными богачами. Глупая, неразумная мать!.. Г-жа Эпсен горько раскаивалась, осыпала себя упреками и проклятиями.
Аблон!
Выйдя ив вагона, г-жа Эпсен даже не узнала станции, даже не вспомнила о веселой прогулке, которую они все вместе совершили здесь весной. Так быстро меняются в наших глазах впечатления от природы, так много личного в наших суждениях о людях и пейзажах! Она вспомнила только, что Элина ездила отсюда в Пор-Совер в омнибусе, и решила справиться на станции. Нет, сказали ей, к этому поезду омнибуса не подадут, но она может свернуть на проселок, который приведет ее прямо к замку, — туда всего полчаса ходьбы.
Стояло теплое, мягкое утро, белая пелена тумана заволакивала размокшие за ночь поля, словно дожидаясь полудня, чтобы излиться дождем или испариться в солнечных лучах. Г-жа Эпсен долго шла мимо каменной стены, которой обнесена была усадьба и которая сменялась высокой решеткой, а за решеткой открывались зеленые газоны, цветущие клумбы, симметрично рассаженные апельсиновые деревья, открывалось лето в цвету, застигнутое дождем и дрожащее в сыром тумане, как вчерашние парижанки в летних платьях. Потом она очутилась в сельской местности: виноградники на отлогих склонах, гряды свеклы, стаи ворон на пашне, картофельные поля, на которых тесные ряды мешков и силуэты крестьян, мужчин и женщин, выделялись мутными, серыми пятнами в белом тумане, стелившемся над самой землей.
Эта унылая картина до боли угнетала бедную мать, и чем ближе она подходила к Пор-Соверу с его красными кровлями и тенистыми деревьями на склоне холма, тем больнее сжимала ее сердце тоска. Обогнув бесконечно длинную ограду парка, густо обвитую плющом и багряными листьями дикого винограда, она пересекла полотно железной дороги и вышла на берег Сены, как раз против замка. Газон в виде полумесяца перед подъездом, окаймленный тумбочками на железных цепях, длинное здание с плотно закрытыми ставнями, массивная решетка, сквозь которую ее глаза различают лишь кроны деревьев… Да, это здесь.
Г-жа Эпсен тихонько позвонила, потом еще раз, погромче, и, дожидаясь у ворот, приготовила свою первую фразу, короткую и учтивую. Но лишь только ворота растворились, она стремительно ворвалась в сад, задыхаясь от волнения, позабыв обо всем.
— Где моя дочь? Где она?.. Сейчас же, сию минуту!/. Я хочу ее видеть!
Лакей, в черном фартуке, с серебряными буквами «П. С.» на воротнике суконной куртки, отвечал, как ему было приказано, что мадемуазель Элина вчера уехала из замка, и прибавил в ответ на возмущенный жест г-жи Эпсен:
— Впрочем, сама барыня сейчас дома. Если вам угодно, она может вас принять.
Следуя за ним, г-жа Эпсен прошла по аллее, по террасе, поднялась по ступенькам крыльца, ничего не замечая вокруг себя, и очутилась в маленькой зеленой гостиной, где г-жа Отман, прямая и стройная, что-то писала за письменным столом. При виде ее знакомого лица, ее кроткой сдержанной улыбки бедная мать несколько успокоилась.
— Сударыня!.. Моя Лина!.. Это письмо… Что все это значит?
И она залилась слезами; все ее толстое, рыхлое тело сотрясалось от судорожных рыданий. Г-жа Отман подумала, что ей нетрудно будет справиться с этой слабой, плачущей женщиной, и, усадив ее рядом с собой на диван, начала успокаивать кротким, елейным голосом… Полно, не нужно отчаиваться, напротив, надлежит радоваться и славить бога, что он удостоил просветить ее дитя, извлечь юную душу из черной могилы, из мрачной бездны греха. Но подобные мистические утешения только терзали живое, трепещущее от боли сердце матери, будто прижигали ее рану раскаленным железом.
— Все это пустые фразы… Отдацте мне моего ребенка!.. Я требую!..
— Элины здесь нет…
Опечаленная этой кощунственной вспышкой, г-жа Отман сокрушенно вздохнула.
— Так скажите мне, где она!.. Я хочу знать, где моя дочь!..
Председательница, видимо, привыкшая к такого рода объяснениям, спокойно ответила, что Элина Эпсен покинула Францию и уехала проповедовать евангельское учение в других странах. Может быть, в Англию или в Швейцарию, это в точности неизвестно. Как бы то ни было, Элина не преминет написать своей матери, к которой навсегда сохранит самые преданные дочерние чувства, как и подобает истинной христианке.
Она как бы пересказывала письмо Лины, почти в тех же выражениях, медленно, убедительно, невозмутимо кротким тоном, который приводил в исступление г-жу Эпсен. Несчастная готова была растерзать эту корректную, изящную женщину, затянутую в черное платье, оттенявшее бледность ее тонкого лица с выпуклым лбом и большими прозрачными глазами почти без зрачков, глазами холодными и жесткими, как камень, в которых не выражалось ни жалости, ни сочувствия.
«О, я задушу eel..» — думала бедная мать, но ее судорожно стиснутые руки с мольбой простирались к г-же Отман.
— Сударыня! Верните мне мою маленькую Лину! У меня нет никого на свете, кроме нее. Если она уйдет, я останусь совсем одна… Боже мой! Мы были так счастливы с нею!.. Вы же видели наш уголок, наше милое, уютное гнездышко… Мы никогда не ссорились, да у нас и негде ссориться…. Мы только и делали, что обнимались.
Бурные рыдания, снова нахлынувшие на измученную женщину, заглушали ее бессвязные мольбы. Она просила только об одном: повидаться с дочкой, поговорить с ней, и если все это правда, если Лина сама подтвердит свое решение… Ну что ж! Тогда она уступит, не будет противиться, она дает клятву.
Свидание! Именно этого-то Жанна Отман и не могла допустить. Она предпочитала утешать несчастную цитатами из Священного писания, христианскими изречениями из своих брошюр: утешение во Христе… скорбь, располагающая к молитве… Вдохновившись своей проповедью, она воскликнула в страстном порыве:
— Но ведь это вас, неразумная вы женщина, вашу бессмертную душу хочет спасти Элина, и ваша материнская скорбь есть начало спасения!
Г-жа Эпсен слушала, не поднимая глаз, до глубины души возмущенная этим ханжеством. Потом вдруг заявила твердым, решительным тоном:
— Ну карашо… Значит, вы не хотите вернуть мне Лину?.. Тогда я обращусь к правосудию. Мы еще посмотрим, дозволены ли законом подобные преступления!
Нисколько не испугавшись этой угрозы, Жанна Отман, величественная, бесстрастная, как сама судьба, вежливо довела посетительницу до крыльца и знаком приказала лакею проводить ее к воротам. На полдороге несчастная мать обернулась, задержавшись на террасе, где еще вчера, даже, может быть, нынче утром, гуляла Лина. Она окинула взглядом громадный, безмолвный, окутанный туманом парк, над которым возвышался, точно над кладбищем, белый каменный крест.
Ей захотелось ринуться в эту густую чащу, к могильному склепу, где — она чувствовала! — замурована, заживо погребена ее дочь, выломать двери с отчаянным криком: «Лина!..» — схватить свою девочку в объятия, увезти далеко-далеко, вернуть ее к жизни… Все это молнией промелькнуло в ее голове. Но несчастную удержал стыд, сознание своего бессилия, безотчетный страх перед окружающей роскошью и образцовым порядком, которые невольно подавляли ее.