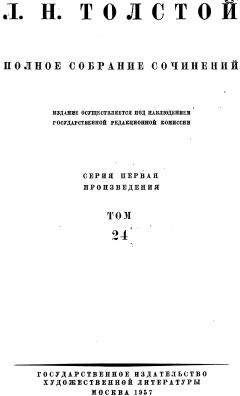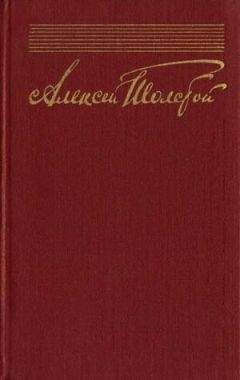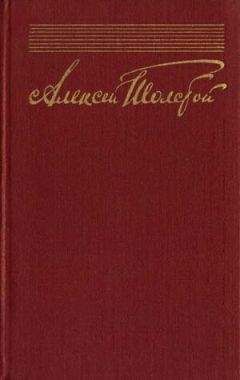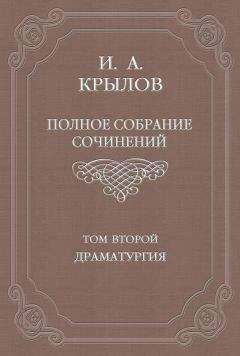Жорж Санд - Она и он
Палмеру пришлось подчиниться, и он подчинился без споров. Он надеялся вновь завоевать доверие Терезы и чувствовал, что оно пошатнулось по его вине.
X
Несколько дней спустя Тереза получила письмо из Женевы. Лоран письменно обвинял себя во всем, в чем уже обвинял себя на словах, как будто хотел закрепить таким образом свидетельство своего раскаяния.
«Нет, я не сумел заслужить тебя, — писал он. — Я был недостоин такой великодушной, такой чистой, такой бескорыстной любви. Я утомил твое терпение, о моя сестра, моя мать! Я утомил бы даже ангелов! Ах, Тереза! По мере того как ко мне возвращается здоровье и я снова начинаю жить, мои воспоминания проясняются; я смотрю в свое прошлое, как в зеркало, и оно показывает мне призрак человека, которого я знал, но которого я теперь не понимаю. Этот несчастный был во власти безумия; не думаешь ли ты, Тереза, что за три или четыре месяца до начала этой ужасной физической болезни, от которой ты чудом спасла меня, у меня уже началась душевная болезнь и уже тогда я не сознавал своих слов и поступков? О, если бы это было так, разве не должна ты была простить меня?.. Однако то, что я говорю сейчас, лишено здравого смысла. Что такое зло, если не душевная болезнь? Разве отцеубийца не мог привести такое же оправдание? Добро, зло — я впервые мучительно задумываюсь над этими понятиями. До того как я узнал тебя и заставил страдать, моя бедная, моя любимая, я никогда о них не думал. Зло было для меня чудовищем низшего порядка, апокалипсическим зверем, живущим среди мерзких подонков общества и оскверняющим своими объятиями отбросы рода человеческого. Зло! Разве могло оно приблизиться ко мне, светскому человеку, парижскому щеголю, благородному сыну муз! Ах, глупец! Так, значит, потому, что борода моя была надушена и руки были в дорогих перчатках, мои ласки облагораживали великую блудницу всех народов, оргию, мою невесту, сковавшую меня с собою такой же благородной цепью, как та, что сковывает каторжников на галерах? И я принес тебя в жертву, моя бедная, нежная возлюбленная, своему грубому эгоизму, а потом поднял голову, говоря: «Это было мое право, она принадлежала мне; это не могло быть дурно, раз я имел на это право!» Ах, я несчастный, несчастный! Я был преступником и не подозревал об этом! Для того, чтобы понять это, мне нужно было потерять тебя — тебя, мое единственное сокровище, единственное существо, которое меня когда-либо любило, которое было способно любить такое неблагодарное и безумное дитя, каким был я! Только когда я увидел, что мой ангел-хранитель, закрыв лицо, улетел от меня, чтобы вернуться в небеса, я понял, что я навеки один и покинут всеми на земле!»
Большая часть этого первого письма была написана в экзальтированном тоне, искренность которого подтверждалась подробностями из повседневной жизни и резкими переменами настроения, столь характерными для Лорана.
«Поверишь ли ты, что, приехав в Женеву, первое, что я сделал, даже прежде чем написать тебе, это пошел купить себе жилет? Да, летний жилет, очень красивый, честное слово, и хорошего покроя: я нашел его у французского портного — приятная находка для путешественника, которому не терпится покинуть этот город часовщиков и набивальщиков чучел. И вот я ходил по улицам Женевы, в восторге от своего нового жилета, и остановился перед книжным магазином, где одно издание Байрона, переплетенное с большим вкусом, непреодолимо соблазняло меня.[10] Что читать в дороге? Я, кстати, терпеть не могу путеводителей, если только в них не говорится о странах, куда я никогда не смогу поехать. Я больше люблю поэтов, которые водят нас по стране своих грез, и я купил это издание. А потом я пошел за прехорошенькой девушкой в короткой юбке — она проходила мимо, и щиколотка ее показалась мне чудом изящества. Я шел за нею, гораздо больше думая о своем жилете, чем о ней. Вдруг она свернула направо, а я налево, сам того не заметив, и я очутился в своей гостинице; там, собираясь положить новую книгу в чемодан, я нашел махровые фиалки, которые ты разбросала по моей каюте в минуту нашего расставания. Я тщательно собрал их и сохранил как реликвию; и вот, когда я увидел их, я залился слезами, словно водосточный желоб, глядя на свой новый жилет, покупка которого была для меня главным событием в это утро, и подумал:
«Вот такое дитя любила эта бедная женщина!»
Дальше он писал:
«Ты взяла с меня обещание, что я буду следить за своим здоровьем, ты сказала: «Так как это я вернула тебе здоровье, оно принадлежит немного и мне, и я имею право запретить тебе его портить». Увы! Моя Тереза, что мне делать с ним, с этим проклятым здоровьем, которое начинает опьянять меня, как молодое вино? Весна в цвету — это время любви, я согласен; но от меня ли зависит, чтобы я полюбил? Ведь даже ты не смогла внушить мне настоящей любви, и ты думаешь, что я встречу женщину, способную совершить чудо, которого не могла совершить ты? Где я найду ее, эту волшебницу? В свете? Конечно, нет; ведь светские женщины не идут на жертвы, они не хотят ничем рисковать. Они, конечно, совершенно правы, и ты могла бы сказать им, мой милый друг, что те, кому мы жертвуем собой, этого не заслуживают; но не моя вина, если я не могу согласиться на то, чтобы делить свою возлюбленную с мужем или любовником. Полюбить незамужнюю девушку? И, значит, жениться на ней? О! Уж об этом, Тереза, ты не можешь подумать без смеха… или без дрожи. Я, скованный цепью закона, когда я не могу терпеть даже цепей своей собственной воли!
Когда-то у меня был друг, который любил гризетку и думал, что он счастлив. Я приударил за этой верной любовницей и получил ее за зеленого попугая, которого ее друг не хотел подарить ей. Она наивно говорила: «Ну вот! Он сам виноват, зачем он не подарил мне этого попугая!» И с тех пор я дал себе слово никогда не любить содержанку, то есть такое существо, которому хочется обладать всем тем, чего оно не получает от своего любовника.
Словом, для меня остаются только авантюристки, которых можно встретить на дорогах, — все они родились княгинями, но у всех были в жизни «несчастья». Слишком много несчастий, покорно благодарю! Я не настолько богат, чтобы заполнить бездны прошлого всех этих дам. Известная актриса? Это часто меня соблазняло; но тогда нужно, чтобы моя возлюбленная отказалась играть перед зрителями, а зритель — это любовник, заменить которого, я чувствую, у меня не хватит сил. Нет, нет, Тереза, я не могу любить! Я требую слишком многого и требую того, чего не могу дать взамен; значит, придется мне вернуться к моей прежней жизни. Лучше уж так, по крайней мере твой образ никогда не будет осквернен во мне возможными сравнениями. Почему бы мне не устроить свою жизнь так: женщины для тела и возлюбленная для души? Хотим мы этого или нет, Тереза, ты все равно останешься моей возлюбленной, тем идеалом, о котором я мечтал, который потерял, оплакал и о котором мечтаю больше, чем когда-либо. Ты не можешь считать это оскорблением, я никогда ничего не буду говорить тебе об этом. Я стану любить тебя в моих сокровенных мыслях, и никто не будет знать об этом, и ни одна женщина никогда не сможет сказать: «Я заменила ее, эту Терезу!»
Друг мой, ты должна сделать мне милость, в которой ты отказала мне в эти последние, столь сладкие и дорогие дни, проведенные нами вместе: ты должна поговорить со мной о Палмере. Ты думала, что это еще причинит мне боль. Так вот, ты ошиблась. Это сразило бы меня, когда в первый раз я в запальчивости спрашивал тебя о Палмере; я был еще болен и невменяем; но когда рассудок вернулся ко мне, когда ты намекнула мне о тайне, которую ты не обязана была мне открывать, я, как мне ни было больно, почувствовал, что могу загладить свою вину, если не буду препятствовать твоему счастью. Я внимательно следил за вами, когда вы были вместе: я видел, что он тебя страстно любит и что в то же время со мною нежен, как отец. Поверишь ли, Тереза, это глубоко взволновало меня. Я и не представлял себе, что может быть такое великодушие, такое величие в любви. Счастливец Палмер! Как он уверен в тебе! Как он тебя понимает, а значит, как он достоин тебя! Это напомнило мне те времена, когда я говорил тебе: «Полюбите Палмера, я буду очень рад!» Ах, какое мерзкое чувство было у меня тогда в душе! Я хотел освободиться от твоей любви, которая угнетала меня угрызениями совести, а все-таки если бы тогда ты ответила мне: «Ну, так я люблю его!..» — я убил бы тебя!
Палмер — это доброе, великодушное сердце, он уже любил тебя, но не побоялся посвятить себя тебе, когда ты, быть может, еще любила меня! Я в подобных обстоятельствах никогда не решился бы рисковать. Во мне было слишком много той гордости, которой мы так чванимся, мы, светские люди, и которую так хорошо придумали глупцы, чтобы помешать нам пытаться завоевать счастье, несмотря на риск и опасности, или уметь хотя бы удержать его, когда оно от нас ускользает.