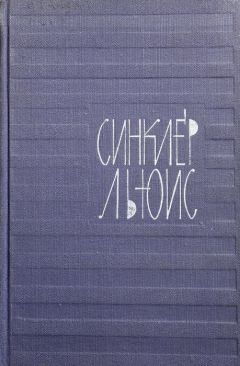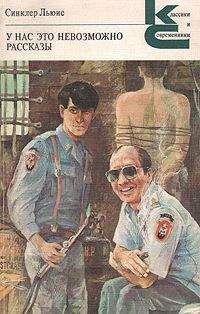Льюис Синклер - Энн Виккерс
Она понимала, что война — глупость, что превращать экономику в средство обогащения небольшой кучки собственников — безумие, что троны и короны, титулы и чины — всего лишь детская забава вроде оловянных солдатиков, но что из всех многочисленных форм человеческой глупости нет ничего бессмысленнее тюрьмы как средства борьбы с преступлением… и чем серьезнее были преступления, тем страшнее становился тот факт, что для борьбы с ними в ход пускается лишь такой варварский способ.
И эти мысли вместе с воспоминанием о кислых запахах и скользких от грязи столах и несъедобной пище, об арестантках, растерянных, отчаявшихся и отупевших, о подленьких приставаниях тюремщиков — все это в дальнейшем побудило ее заняться тюремной реформой и не отпускало даже, когда она рвалась уйти от этой изнуряющей показной деятельности под защиту мужа, домашнего очага, детей, земли и безмятежной обыденности.
Земля, дети, свой дом, муж!
Никогда еще она не жаждала их так сильно, как в эти дни своего безделья. До сих пор она то носилась по Уобенеки, то суетилась в Пойнг-Ройяле, то ораторствовала в Клейтберне — всегда она была слишком занята, чтобы как следует поразмыслить над тем, что представляет собой Энн Виккерс и чего она хочет.
Может быть, со вздохом думала Энн (уставясь на одного из тараканов, плодившихся быстрее, чем они успевали их уничтожать), может быть, она только Марфа,[74] одна из тех, кто считает, что умащать человечество мирром сладострастия — ненужная расточительность, из тех, кто всегда будет подавать обед Лазарю и Иисусу, всегда будет жить для массы, и растворяться в ней, и никогда не проявлять себя как личность? И однако Энн была в достаточной мере «личность», когда мечтала о мужчинах в тюрьме, в атмосфере попранной женственности, среди закабаленных и измученных самок.
Мужчины! Особняк Фэннинга изобиловал ими не более, чем Пойнт-Ройял. В Фэннинг заходили лишь дрессированные мужья, банковские клерки с литературными наклонностями и социалисты, которые называли вас «товарищ» и тут же норовили братски потрепать по подбородку. Но тогда девушки слишком переутомлялись, чтобы думать о любви. Теперь же у них появился досуг, и Энн грезила, грезила днем и ночью о возлюбленном и друге, который бы обладал ироничностью Адольфа Клебса и здоровой свежестью Глена Харджиса. Он спускался к ней по густой траве горного пастбища, и они неслись по склонам, легкие, как тени облаков… Она встречала его в дверях обветшалого дома, в старом и шумном городе, в туманный день, в расплывчатом свете уличных фонарей; в этом было что-то запретное и волнующее; они ускользали вместе — она испытывала дрожь счастья, беря его за руку, и они пили чай в своем тайном уголке… Они бродили по улицам Венеции и возвращались в свой номер в палаццо с высоким потолком, расписанным купидонами, и огромной синей с золотом кроватью в дальнем конце комнаты, где пол был выложен красным кафелем, а с потолка свисала хрустальная люстра… А потом каким-то чудом они оказывались в Коннектикуте, в маленьком домике с огородом меньше люстры, но куда более захватывающим…
Все, что она прочла в развлекательных романах, все, что видела в кино, припоминалось теперь и представлялось ей в ее отрешенном настроении более реальным, чем тараканы на ржавых прутьях камеры, визг проститутки в пяти шагах от нее и груда конвертов, ожидающих ее в Клейтберне.
Кандальная команда вышла из тюрьмы под ураган роз, конфетти и звуки духового оркестра, исполнявшего «Типперери».[75] Четыре девушки, мисс Богардес, миссис Мэндерс и преподобный Чонси Симсбери из пресвитерианской церкви Св. Гондольфа выступали перед двумя тысячами тэффордских жителей, которые бурно рукоплескали им, а затем отправились голосовать против предоставления женщинам избирательного права.
На клейтбернском вокзале их ждали все газетные фотографы города, шестнадцать профессиональных и семьдесят два любителя, а также батальон репортеров и опять-таки духовой оркестр. В Симфоническом зале они выступали перед тремя тысячами людей, и единственного субъекта, который пытался прерывать их возгласами, выбросили за дверь два энтузиаста-коммерсанта, того сорта, что каждые две недели стригутся в парикмахерской.
Им некогда было пообедать, так что между приездом в Клейтберн и митингом в Симфоническом зале они не ели ничего, кроме шоколада с миндалем. Когда же наконец им удалось удрать от сотен своих стойких сторонниц, устремившихся к ним после митинга, чтобы пожать им руки, и они добрались до твердыни Фэннинга, выяснилось, что за всей этой кутерьмой мисс Богардес забыла приготовить ужин. Им пришлось удовлетвориться холодными мясными консервами и черствым печеньем.
Но их постели в мансарде Фэннинга показались им ложем в магометанском раю.
Размышления в тюрьме подстрекнули Энн вырваться из праведного рабства суфражистского движения. Добродетельность и готовность к самопожертвованию мисс Богардес, заставлявшие ее требовать таких же добродетелей и жертв от других, были худшей тиранией, чем темница. В нашем мире нельзя быть добродетельным сьерх меры, иначе ближним приходится туго. Энн боялась Секиры больше, чем отряда полиции. И она устала — не только от конвертов, за которые, не прошло и суток после их освобождения, снова засадила их мисс Богардес, но и от всего священного суфражистского лексикона: «экономическая независимость женщин», «равные права», «равная плата за равный труд», «матриархат». Подобно одряхлевшим словам «идеализм», «добродетель», «патриотизм», они утратили всякий смысл. И ей надоели беспрерывные разговоры о тяжком положении женщины. Бог свидетель, многим приходилось тяжело: молодым вдовам с тремя детьми, работающим по двенадцать часов в сутки и зарабатывающим ровно столько, чтобы медленно умирать с голоду; интеллигентным женщинам, терпящим насмешки и унижения от грубых мужей. Но дамами, которые являлись в Особняк Фэннинга пить чай только затем, чтобы пожаловаться, как мужья не ценят их возвышенных натур, Энн была сыта по горло. Она начала симпатизировать мужьям.
И все же прошло целых четыре месяца, прежде чем, после долгих совещаний шепотом с Пэт и Элеонорой, сна преодолела свой страх и сбежала из Клейтберна.
Возможно, что из вполне естественной трусости она бы так и не решилась удрать из Фэннинга до принятия поправки к конституции о предоставлении избирательного права женщинам, если бы Пэт и Элеонора не признались, что они тоже собираются вторгнуться в Нью-Йорк, стать нормальными грешными людьми и навсегда освободиться от конвертов. Так пусть Энн первая проложит им дорогу. Они попробуют выгородить ее, когда мисс Богардес захочет предать ее анафеме за измену.
В 1916 году Энн нашла работу в нью-йоркском комитете по «обследованию условий» в текстильной и швейной промышленности. Жалованье она, правда, пол) — чала смехотворное, но ей была обеспечена комната и стол в народном доме Корлиз-Хук за уроки иностранцам.
Несколько ошеломленная, свободная, не очень твердо зная, что делать со своей свободой, терзаясь угрызениями совести — добропорядочной наивной среднезападной плюс коннектикутской совести, — еще не оправившись от сухого тона Секиры («Если тебе здесь плохо, мы не будем тебя удерживать»), Энн уныло подъезжала к небоскребам Нью-Йорка в ласкающий апрельский день.
Но когда с высокого перрона она увидела шпиль Вулворта,[76] а затем взглянула вниз на пеструю толпу — китайцев, итальянцев, венгров, янки, банкиров-миллионеров, матросов прямо с Явы, интеллигентных евреев-адвокатов, рабочих-монтажников, посвистывающих на стальных фермах, — сердце ее устремилось ввысь, к вершинам небоскребов, и кровь заструилась быстрее вместе с людским потоком большого порта, и она воскликнула:
— Вот где я найду настоящее дело!.. Только вот какое? I
ГЛАВА XIV
Когда в 1917 году Америка вступила в войну, Энн Виккерс уже успела из рядового работника народного дома Корлиз-Хук в нижней части Нью-Йорка превратиться в заместительницу заведующей. В ее непосредственном ведении были курсы английского языка, литературы, современной драмы, экономики, физиологии и поварского искусства для бедняков района; клубы для матерей, для девушек и для мальчиков с воинственными наклонностями; театральный кружок, а также лекции, которые бесплатно читались энтузиастами, проповедовавшими единый налог, ловлю форели, исследование Тибета, пацифизм, коллекционирование морских раковин, пишу из отрубей или изучение географии империи Карла Великого.
После уединения Фэннинга Энн окунулась в неизбежный, неотъемлемый от Нью-Йорка водоворот знакомств и непрестанных телефонных звонков. Пэт Брэмбл полгода работала учительницей в Денвере (ее, по-видимому, уволили за непригодность), затем перебралась в Нью-Йорк и была ныне чем-то вроде секретаря-стенографистки в каком-то рекламном бюро. Элеонора Кревкёр сделалась помощником редактора торговой газеты, посвятившей свои страницы меблировке квартир, и писала дифирамбы уборным, панегирики сухой штукатурке и бравурные марши на тему складных подставок для багажа в комнатах для гостей.