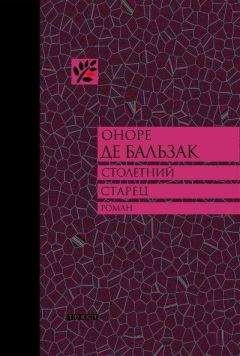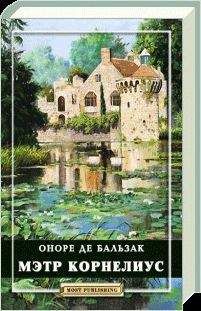Оноре Бальзак - Лилия долины
— Вы заставили бы меня выпить даже кубок цикуты, — сказал я, прижимая ее руку к своему неистово бьющемуся сердцу.
— Вы опять за свое! — воскликнула Анриетта и отдернула руку, словно почувствовала острую боль. — Неужели вы хотите лишить меня печальной радости, какую вы мне даете, врачуя дружеской рукой раны моего сердца? Не умножайте же моих страданий: они не все вам известны! Ведь затаенные муки всего труднее переносить. Будь вы женщиной, вы поняли бы, какая глубокая скорбь овладевает душой, когда супруг оказывает тебе внимание, которым думает все исправить, но не исправляет ничего. В течение нескольких дней он будет ухаживать за мной, чтобы загладить свою вину. Стоит мне пожелать тогда, и он исполнит мои самые сумасбродные прихоти. Я горда, и меня оскорбляют эти любезности, ведь он отказывается от них в тот день, когда полагает, что я все простила. Пользоваться благосклонностью своего повелителя как выкупом за его ошибки...
— Нет, преступления! — подхватил я с живостью.
— Что за ужасная жизнь! — продолжала она с печальной улыбкой. — К тому же я не умею извлекать выгоду из своей временной победы, подобно рыцарям, которые никогда не наносили ударов побежденному противнику. Видеть поверженным того, кого мы обязаны уважать, помогать ему подняться и получать за это лишь новые удары, страдать больше, чем он, от его унижения, испытывать укоры совести, если воспользуешься своим мимолетным влиянием, растрачивать силы, расточать сокровища души в этой недостойной борьбе, властвовать лишь тогда, когда получаешь смертельные раны... Нет, лучше умереть! Если б у меня не было детей, я безвольно покорилась бы течению жизни; но что станется с ними, если я потеряю мужество? Я должна жить ради них, как бы тяжела ни была моя жизнь. Вы говорите мне о любви?.. Подумайте, мой друг, в какой ад я попаду, если дам право презирать себя этому человеку, безжалостному, как все слабые люди? Я не вынесу его укоров. Безупречное поведение — моя единственная опора. В добродетели, дорогое дитя, я черпаю силу, которая поддерживает меня, и, преисполнившись благодати, моя душа устремляется к богу!
— Послушайте, дорогая Анриетта, до моего отъезда осталось не более недели, и я хочу...
— Неужели вы скоро покинете нас? — спросила она, прерывая меня.
— Но ведь должен же я узнать, как распорядился моей судьбой батюшка? Вот уже скоро три месяца...
— Я не вела счета дням, — ответила она, не пытаясь скрыть свое волнение.
Она помолчала, как бы собираясь с мыслями, и предложила:
— Давайте погуляем. Идемте во Фрапель.
Анриетта, обычно такая спокойная, неторопливая, проявила нервную суетливость парижанки, она позвала графа, детей, велела принести шаль, и, когда все было готово, мы отправились все вместе с визитом, который графиня вовсе не должна была отдавать. Во Фрапеле она постаралась казаться веселой и вступила в беседу с г-жой де Шессель, которая, к счастью, отвечала очень пространно на вопросы Анриетты. Граф и г-н де Шессель заговорили о своих делах. Я опасался, как бы г-н Морсоф не стал расхваливать свой новый выезд, но на этот раз он проявил безупречный такт. Когда разговор зашел о работах, начатых в Кассине и Реторьере, я взглянул на графа, полагая, что он побоится затрагивать столь щекотливую тему, связанную для него с тягостными воспоминаниями; однако он стал доказывать, что необходимо срочно улучшить положение сельского хозяйства в округе, построить фермы с просторными и удобными помещениями, словом, хвастливо приписал себе все идеи жены. Я смотрел на графиню, краснея от стыда за него. Это отсутствие чуткости у человека, который бывал иногда столь деликатен, эта странная забывчивость, это присвоение чужих идей, которые он еще недавно яростно оспаривал, эта самоуверенность ошеломили меня.
И когда г-н де Шессель спросил у него:
— Надеетесь ли вы вернуть свои затраты?
— Верну, и с лихвой! — убежденно сказал граф.
Столь резкие переходы можно было объяснить лишь словом «безумие». Анриетта, эта ангельски кроткая душа, сияла. Разве граф не казался в эту минуту практичным, здравомыслящим человеком, хорошим хозяином, прекрасным агрономом? И она с улыбкой гладила по головке Жака, радуясь за себя, радуясь за своего сына! Какая чудовищная комедия, какая нелепая драма! Это зрелище потрясло меня. Впоследствии, когда поднялся занавес, скрывавший от меня сцену социальной жизни, сколько я увидел других Морсофов, у которых не было ни проблесков чистосердечия, ни набожности графа. Что за непонятная и злобная сила неизменно соединяет безумца с ангелом, чуткого, искренне любящего человека с дурной женщиной, коротышку с жердью, урода с прекрасным, возвышенным созданием, благородную Хуану[36] с капитаном Диаром, историю которых вы слышали в Бордо, г-жу де Босеан[37] с каким-нибудь Ажуда, г-жу д'Эглемон[38] с ее супругом, маркиза д'Эспар[39] с его женой? Признаюсь, я долго доискивался смысла столь странного явления. Я исследовал много тайн, я открыл значение некоторых естественных законов, смысл иных божественных иероглифов, но перед этой загадкой я теряюсь, я все еще раздумываю над ней, словно решаю индусскую головоломку, символическое построение которой известно одним браминам. Здесь слишком явно господствует дух зла, однако я не смею обвинять бога. Кто забавляется, создавая эти безвыходные положения? Неужели права Анриетта со своим Неведомым философом? Неужели их мистицизм открывает нам общий смысл жизни?
Под конец моего пребывания в Турени осень вступила в свои права, деревья облетели, серые облака заволокли небо, всегда такое ясное и теплое у нас в это чудесное время года. Накануне моего отъезда г-жа де Морсоф увела меня перед обедом на террасу.
— Дорогой Феликс, — сказала она после того, как мы в полном молчании несколько раз прошлись под унылыми, голыми деревьями, — вы вступаете в свет, и я хочу мысленно сопутствовать вам. Тот, кто много страдал, много прожил. Не думайте, что, оставаясь в одиночестве, люди ничего не знают о свете; они умеют судить о нем. Если мне предстоит жить жизнью моего друга, я хочу быть уверенной в его сердце, в чистоте его совести; в пылу битвы трудно помнить обо всех правилах борьбы. Позвольте же мне дать вам несколько советов, какие мать дала бы своему сыну. В день вашего отъезда, дорогое дитя, я вручу вам длинное письмо, где вы найдете мои размышления о людях, о свете, о том, как следует преодолевать препятствия в этом огромном водовороте корыстных интересов. Но обещайте мне прочесть его только в Париже. Пусть не удивляет вас эта просьба: женское сердце имеет свои причуды. Их не так уж трудно понять, но нам не хочется порой, чтобы нас разгадали. Не ходите же за мной по тем тропинкам, где женщина любит прогуливаться одна.
— Хорошо, — проговорил я, целуя ее руки.
— Да, вот еще что! — продолжала она. — Я хочу потребовать от вас клятвы, обещайте заранее, что дадите ее.
— Обещаю, — сказал я, думая, что она говорит о верности.
— Речь идет не обо мне, — заметила она с горькой усмешкой. — Никогда не играйте в азартные игры, Феликс, я не делаю исключения ни для одной светской гостиной.
— Я никогда не буду играть, — сказал я.
— Хорошо. Я нашла для вас более полезное занятие, нежели игра. Вот увидите, там, где другие рано или поздно окажутся в проигрыше, вы неизменно будете выигрывать.
— Каким образом?
— Письмо вам все откроет, — ответила она весело, и благодаря этому тону ее советы звучали не так торжественно, как звучат обычно советы старших.
Графиня беседовала со мной около часа и доказала мне глубину своей привязанности, обнаружив, как тщательно она изучила мой характер за последние три месяца; она проникла в самые потайные уголки моего сердца, озарив их светом материнской любви; ее голос звучал проникновенно, убедительно, а смысл и тон слов говорил о том, как крепки связывавшие нас узы.
— Если бы вы знали, — сказала она в заключение, — с какой тревогой я буду мысленно следовать за вами, как буду радоваться, если вы пойдете прямой дорогой, сколько слез пролью, если вы пораните себе ноги об острые камни! Верьте, моя привязанность к вам не имеет себе равной: она непроизвольна и вместе с тем разумна. Мне так хочется видеть вас счастливым, могущественным, окруженным почетом, ведь вы будете для меня как бы воплощенной мечтой!
Я не мог слушать ее без слез. Анриетта была одновременно нежна и неумолима; ее чувство смело обнаруживало себя, но оно было слишком чисто, чтобы дать хоть малейшую надежду юноше, жаждавшему наслаждения. В обмен на мою мучительную страсть она, не скупясь, дарила мне свою непорочную святую любовь, которая могла насытить лишь душу. Она возносилась на такую высоту, куда я не мог следовать за ней на огненных крыльях желания, от которого на том памятном балу помутился мой разум; дабы приблизиться к ней, мужчине следовало обрести белые крылья серафима.