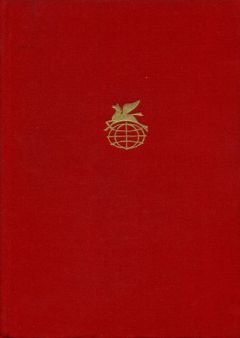Максим Горький - Рассказы. Очерки. Воспоминания. Пьесы
Коновалов взял у меня письмо и задумчиво стал вертеть его между пальцами одной руки, другою покручивая бороду.
— А писать ты умеешь?
— Могу…
— А чернила у тебя есть?
— Есть.
— Напиши ты ей письмо, а? Она, чай, поди, мерзавцем меня считает, думает — я про нее забыл… Напиши!
— Изволь. Она кто?..
— Проститутка… Видишь — о выключке пишет. Это, значит, чтобы я полиции дал обещание, что женюсь на ней, тогда ей возвратят паспорт, а книжку у нее отберут, и будет она с той поры свободная! Вник?
Через полчаса готово было трогательное послание к ней.
— Ну-ка почитай, как оно вышло? — с нетерпением спросил Коновалов.
Вышло вот как:
«Капа! Не думай про меня, что я подлец и забыл о тебе. Нет, я не забыл, а просто запил и весь пропился. Теперь снова поступил на место, завтра возьму у хозяина денег вперед, вышлю их на Филиппа, и он тебя выключит. Денег тебе на дорогу хватит. А пока — до свиданья. Твой Александр».
— Гм… — сказал Коновалов, почесав голову, — а пишешь ты неважно. Жалости нет в письме у тебя, слезы нет. И опять же — я просил тебя ругать меня разными словами, а ты этого не написал…
— Да зачем это?
— А чтобы она видела, что мне перед ней стыдно и что я понимаю, как я перед ней виноват. А так что! Точно горох просыпал — написал! А ты слезу подпусти!
Пришлось подпустить в письмо слезу, что я с успехом и выполнил. Коновалов удовлетворился и, положив мне руку на плечо, задушевно проговорил:
— Вот теперь славно! Спасибо! Ты парень, видно, хороший, — мы с тобой уживемся.
Я не сомневался в этом и попросил его рассказать мне о Капитолине.
— Капитолина? Девочка она, — совсем дитя. Вятская, купеческая дочь была… Да вот свихнулась. Дальше — больше, и пошла в публичный дом… Я — смотрю, ребенок совсем! Господи, думаю, разве так можно? Ну, и познакомился с ней. Она — плакать. Я говорю; «Ничего, потерпи! Я те отсюда вытащу — погоди!» И все у меня было готово, деньги и все… И вдруг я запил и очутился в Астрахани. Потом вот сюда попал. Известил ее обо мне один человек, и она написала мне письмо.
— Что же ты, — спросил я его, — жениться хочешь на ней?
— Жениться, где мне! Ежели у меня запой — какой же я жених? Нет, так я это. Выключу ее — и потом иди на все четыре стороны. Место себе найдет, — может, человеком будет.
— Она с тобой хочет жить…
— Да ведь это она блажит только. Они все такие… бабы… Я их очень хорошо знаю. У меня много было разных. Даже купчиха одна… Конюхом я был в цирке, она меня и выглядела. «Иди, говорит, в кучера». Мне цирк в ту пору надоел, я и согласился, пошел. Ну и того… Стала она ко мне ластиться. Дом это у них, лошади, прислуга — как дворяне жили. Муж у нее был низенький и толстый, на манер нашего хозяина, а сама она такая худая, гибкая, как кошка, горячая. Бывало, как обнимет да поцелует в губы — как углей каленых в сердце всыплет. Так ты весь и задрожишь, даже страшно станет. Целует, бывало, а сама все плачет: плечи у нее даже ходуном ходят. Спрошу ее: «Чего ты, Верунька?» А она: «Ребенок, говорит, ты, Саша; не понимаешь ты ничего». Славная была… А это она верно, что я не понимаю-то ничего — очень я дураковат, сам знаю. Что делаю — не понимаю. Как живу — не думаю!
И, замолчав, он посмотрел на меня широко раскрытыми глазами; в них светился не то испуг, не то вопрос, что-то тревожное, от чего красивое лицо его стало еще печальнее и краше…
— Ну, и как же ты с купчихой-то кончил? — спросил я.
— А на меня, видишь ты, тоска находит. Такая, скажу я тебе, братец мой, тоска, что невозможно мне в ту пору жить, совсем нельзя. Как будто я один человек на всем свете и, кроме меня, нигде ничего живого нет. И все мне в ту пору противеет; и сам я себе становлюсь в тягость, и все люди; хоть помирай они — не охну! Болезнь это у меня, должно быть. С нее я и пить начал… Так вот, я и говорю ей: «Вера Михайловна! отпусти меня, больше я не могу!» — «Что, говорит, надоела я тебе?» И смеется, знаешь, да таково нехорошо смеется. «Нет, мол, не ты мне надоела, а сам я себе не под силу стал». Сначала она не понимала меня, даже кричать стала, ругаться… Потом поняла. Опустила голову и говорит: «Что же, иди!..» Заплакала. Глаза у нее черные. Волосы тоже черные и кудрявые. Она не купеческого роду была, а из чиновных… Н-да… Жалко мне ее было, и противен я был сам себе тогда. Ей, конечно, скучно было с этаким-то мужем. Он совсем как мешок муки… Плакала она долго — привыкла ко мне… Я ее очень нежил: возьму, бывало, на руки и качаю. Он спит, а я сижу и смотрю на нее. Во сне человек очень хорош бывает, такой простой; дышит да улыбается, и больше ничего. А то — на даче когда жили, — бывало, поедем с ней кататься, — во весь дух она любила. Приедем, куда ни то в уголок в лесу лошадь привяжем, а сами в холодок на траву. Она велит мне лечь, положит мою голову себе на колени и читает мне какую-нибудь книжку. Я слушаю, слушаю, да и засну. Хорошие истории читала, очень хорошие. Никогда я не забуду одной — о немом Герасиме и его собаке.[32] Он, немой-то, гонимый человек был, и никто его, кроме собаки, не любил. Смеются над ним и все такое, он сейчас к собаке идет… Очень это жалостная история… А дело-то было в крепостное время… Барыня и говорит ему: «Немой, иди утопи свою собаку, а то она воет». Ну, немой пошел… Взял лодку, посадил в нее собаку и поехал… Я, бывало, в этом месте дрожью дрожу. Господи! У живого человека единственную в свете радость его убивают! Какие это порядки? Удивительная история! И верно — вот что хорошо! Бывают такие люди, что для них весь свет в одном в чем-нибудь — в собаке, к примеру. А почему в собаке? Потому больше никого нет, кто бы любил такого человека, а собака его любит. Без любви какой-нибудь — жить человеку невозможно: затем ему и душа дана, чтобы он мог любить… Много она мне разных историй читала. Славная была женщина, и посейчас жалко мне ее… Кабы не моя планета — не ушел бы я от нее, пока она сама того не захотела бы или муж не узнал про наши с ней дела. Ласковая она была — вот что первое, не тем ласковая, что подарки дарила, а так — по сердцу своему ласковая. Целуется она со мной и все такое — женщина как женщина… а найдет, бывало, на нее этакий тихий стих… удивительно даже, до чего она тогда хороший человек была. Смотрит, бывало, прямо в душу и рассказывает, как нянька или мать. Я в такие времена, бывало, прямо как пятилетний ребенок перед ней. Но все-таки ушел от нее — тоска! Тянет меня куда-то… «Прощай, говорю, Вера Михайловна, прости меня». — «Прощай, говорит, Саша». И — чудная — обнажила мне руку по локоть, да как вцепится зубами в мясо! Я чуть не заорал! Так целый кусок и выхватила почти, — недели три болела рука. Вот и сейчас знак цел.
Обнажив мускулистую руку, белую и красивую, он показал мне ее, улыбаясь добродушно-печальной улыбкой. На коже руки около локтевого сгиба был ясно виден шрам — два полукруга, почти соединявшиеся концами. Коновалов смотрел на них и, улыбаясь, качал головой.
— Чудачка! Это она на память куснула.
Я слышал и раньше истории в этом духе. Почти у каждого босяка есть в прошлом «купчиха» или «одна барыня из благородных», и у всех босяков эта купчиха и барыня от бесчисленных вариаций в рассказах о ней является фигурой совершенно фантастической, странно соединяя в себе самые противоположные физические и психические черты. Если она сегодня голубоглазая, злая и веселая, то можно ожидать, что чрез неделю вы услышите о ней как о черноокой, доброй и слезливой. И обыкновенно босяк рассказывает о ней в скептическом тоне, с массой подробностей, которые унижают ее.
Но в истории, рассказанной Коноваловым, звучало что-то правдивое, в ней были незнакомые мне черты — чтения книжек, эпитет ребенка в приложении к мощной фигуре Коновалова…
Я представил себе гибкую женщину, спящую у него на руках, прильнув головой к широкой груди, — это было красиво и еще более убедило меня в правде его рассказа. Наконец его печальный и мягкий тон при воспоминании о «купчихе» — тон исключительный. Истинный босяк никогда не говорит таким тоном ни о женщинах, ни о чем другом — он любит показать, что для него на земле нет такой вещи, которую он не посмел бы обругать.
— Ты чего молчишь, думаешь, я наврал? — спросил Коновалов, и в голосе его звучала тревога. Он сидел на мешках с мукой, держа в одной руке стакан чаю, а другой медленно поглаживая бороду. Его голубые глаза смотрели на меня пытливо и вопросительно, морщинки на лбу легли резко…
— Нет, ты верь… Чего мне врать? Положим, наш брат, бродяга, сказки рассказывать мастер… Нельзя, друг: если у человека в жизни не было ничего хорошего, — он ведь никому не повредит, коли сам для себя выдумает какую ни то сказку, да и станет рассказывать ее за быль. Рассказывает и сам себе верит, будто так и было — верит, ну, ему и приятно. Многие живут этим. Ничего не поделаешь… Но я тебе рассказал правду, — так оно и было. Разве тут что особенное есть? Женщина живет, и ей скучно. Положим, я кучер, но женщине это все равно, потому что и кучер, и барин, и офицер — все мужчины… И все перед ней свиньи, все одного и того же ищут, и каждый норовит, чтобы побольше взять да поменьше заплатить. Простой-то человек совестливее. А я очень простой… Женщины это хорошо во мне понимают — видят, что не обижу, не насмеюсь над ней. Женщина — она согрешит и ничего так не боится, как смеха, издевки над ней. Они стыдливее против нас. Мы свое возьмем и хоть на базар пойдем рассказывать, хвастаться станем — вот, мол, как мы одну дуру провели!.. А женщине некуда идти, ей греха в удаль никто не ставит. Они, брат, даже самые потерянные, и те стыда больше нас имеют.