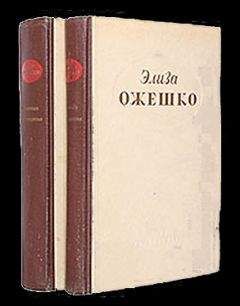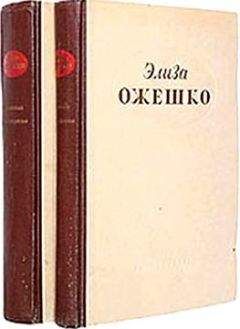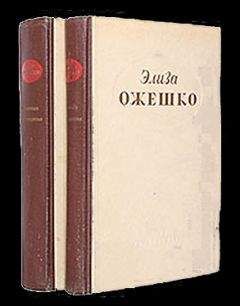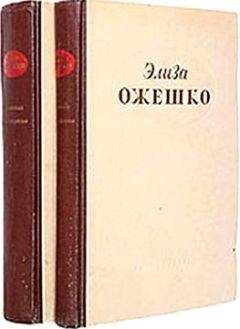Элиза Ожешко - Меир Эзофович
VI
По складу своего ума и по характеру Эли Витебский обладал большими дипломатическими способностями. Он родился и вырос не в Шибове, как все без исключения остальные обитатели этого местечка, и приехал сюда только три года тому назад, вынужденный к этому своими делами и различными семейными обстоятельствами.
Следовательно, среди местных жителей, знавших друг друга от дедов и прадедов, он был, чуть ли не чужеземцем; а вдобавок, проведя всю свою жизнь в большом губернском городе, он привез еще с собою всякие новшества, которые изумляли и оскорбляли не в меру консервативных жителей глухого угла. Такими новшествами были: одежда, значительно отличавшаяся своим покроем и длиной, ношение перстня с бриллиантом, отсутствие ермолки на голове, коротко подстриженная золотистая бородка, полное отсутствие в доме талмудических и каббалистических книг и в особенности обладание такой женой, как пани Гана, и такой дочерью, которая учится где-то в пансионе, а кроме этой последней, только еще двумя детьми. Новшества эти, бесконечно важные, невиданные и неслыханные, должны были навлечь на элегантного купца общее нерасположение шибовского общества. Однако не навлекли. Вначале, правда, там и сям поднялись разговоры, что он миснагдим, прогрессист, — равнодушный к делам веры. Подозрения эти, однако, быстро рассеялись, а той силой, которая их рассеяла, была чрезвычайная мягкость, предупредительность и гибкость Эли. Всегда учтивый, усмехающийся, приветливый, он ни с кем не препирался, каждому уступал, все подтверждал, ссорящихся между собой людей избегал, чтобы не приходилось становиться на сторону одного из них, вызывая этим раздражение у другого; если же никоим способом нельзя было этого избегнуть, то он умел так мило, плавно, сладко и убедительно говорить, что враждебные стороны, плененные его красноречием, смягчались, примирялись и уносили в своих сердцах благодарность и почтение к нему, говоря с восторгом: а клугер менш! Что же касается собственно обрядов и религиозных предписаний, то Витебский оказался истинным ортодоксом. Он праздновал шабаш и соблюдал кошеры с самой мелочной пунктуальностью; великому раввину, сколько бы раз ни встречал его, он всегда очень низко кланялся и умел даже делать то, чего никому в целой общине никогда не удавалось, — разглаживать нахмуренный лоб и прояснять задумчивые глаза мудреца какими-то веселыми притчами, неизвестно откуда взятыми, но всегда рассказанными так, что в них была доля какого-то мистического или патриотического настроения, благодаря чему, они нравились даже самым суровым слушателям. Дома он проводил мало времени, постоянно разъезжая по делам, которыми усердно занимался. Но всякий раз, когда он находился в Шибове, его неизменно видели в бет-гамидраше, где он слушал с надлежащим благоговением мудрые поучения раввина Тодроса и улыбался от удовольствия, когда десяток или несколько десятков старых и молодых мудрецов общины вели между собой ожесточенный пильпуль, то есть рассуждали и спорили о разных комментариях и 6 комментариях к комментариям, которыми полны две тысячи пятьсот печатных листов Галахи, Агады и Гемары. В доме молитвы он также всегда •присутствовал в то время, когда там бывали все, и хотя не мог причислить себя к наиболее горячо молящимся, следовательно, наиболее громко кричащим и наиболее сильно раскачивающимся, но весь его внешний вид и выражение его лица неизменно бывали вполне благопристойны. Не следует, однако, думать, что, поступая таким образом, Витебский был лицемером. Нисколько. Он искренне любил согласие и спокойствие и поэтому не хотел их нарушать. Ему везло в жизни, и он чувствовал себя довольным и счастливым; он любил, поэтому всех людей, и ему было совершенно и глубоко безразлично, был ли тот человек, с которым приходилось иметь дело, талмудистом, каббалистом, хасидом, правоверным, отщепенцем или даже эдомитом, лишь бы только тот не вредил ему лично. Об эдомитах, впрочем, он и узнал-то в первый раз только тогда, когда приехал в Шибов; в том кругу, в котором он вращался раньше, христиан называли гоями и, но и то очень редко, только под влиянием исключительных чувств гнева или обиды, чаще же всего их попросту называли христианами. Когда, однако, приехав в Шибов, он услышал об эдомитах, то подумал про себя: пусть себе будут и эдомиты! И с тех пор и он также не давал христианам другого названия, кроме этого, кбгда разговаривал о них с кем-нибудь из шибовских обитателей. Но в это название им не вкладывалось ни крошки ненависти или хотя бы неприязни. Эдомиты не сделали ему до сих пор ничего особенно плохого: за что же он стал бы их не любить? За пределами Шибова он относился к ним дружелюбно и многих из них даже любил, но в Шибове — как все, так и он!
В детстве ему дали религиозное воспитание, но потом все как-то развеялось и исчезло из его памяти среди вполне светских интересов и занятий. В Иегову он верил и глубоко чтил его; о Моисее знал; знал также кое-что о вавилонском пленении и о новейшей истории еврейского народа; но глубже он не вникал. В сущности его очень мало трогало, что и как сказал и повелел танаит или какой-нибудь раввин. Однако он никому не противоречил ни словом, ни поступком, ни даже мыслью. Делал все, как было приказано делать всем, говоря самому себе: — Кому это мешает! Может быть, это так себе, людские выдумки, а может быть, и приказание самого бога, — зачем мне восстанавливать его против себя?..
Ведя такую политику с людьми и богом, он ничего не боялся, и ему хорошо было на свете.
Было бы ему и совсем хорошо, если бы он не привез с собой новости, сильнее всего изумлявшей жителей Шибова, — жены своей Ганы. Насколько он, живя в маленьком местечке, стремился и старался казаться таким, какими были все, настолько же наибольшей заботой пани Ганы было поступать иначе, нежели все. Когда они жили в большом городе, между ними царило полное согласие, коренившееся на действительной привязанности и на одинаковости вкусов. Здесь же пани Гана стала для мужа своего предметом непрерывной заботы и некоторого опасения.
Пани Гана была страстно влюблена в культуру, которая представлялась ей в виде изящных платьев, собственных волос, а не париков на голове, красиво меблированных комнат, очень вежливого обхождения с людьми, французского языка и музыки. Музыку она любила без памяти. Живя в большом городе, она всегда ходила слушать ее в общественный сад, где, прохаживаясь со своими приятельницами в шелестящем шелковом платье и шляпе с цветами и рассматривая красивых господ, любезно разговаривавших с красивыми дамами, чувствовала себя вполне счастливой и гордилась своим общественным положением. В особенности некоторые предметы культуры приводили ее в настоящий восторг. Однажды, увидев в каком-то общественном саду фонтан, она с невыразимым наслаждением любовалась на него несколько часов, а вернувшись в свой город, в котором не было никакого фонтана, целый год рассказывала своим приятельницам об этом необычайно красивом явлении.
Зеркала также пользовались ее особенным расположением; каждый раз, когда она оказывалась перед каким-нибудь зеркалом больших размеров, она не могла оторвать своих глаз от него, главным же образом от видневшегося в нем изображения собственной персоны, казавшейся ей вполне прекрасной, особенно если в ушах были золотые серьги, а на голове изящный чепчик с цветами. Что касается религиозной и вообще житейской философии, то в ней пани Гана разбиралась еще меньше своего мужа. В господа бога она верила и даже в глубине души ужасно боялась его; и в чертей верила она, боясь их еще больше, чем господа бога; верила и в то, что каждый, кто не увидит своей тени в праздничную ночь, умрет в продолжение года; и еще в то, что человеку, сдвинувшему с места свечу, поставленную на столе в шабаш, грозит великое несчастие. Но зато она не верила во многие другие вещи, вполне подобные вышеупомянутым, презрительно называя их суевериями; будучи заботливой и бережливой хозяйкой, она признавала в душе, что было бы лучше, если бы евреи ели такое же мясо, как и христиане, так как оно обходилось бы гораздо дешевле, и если бы в хозяйстве не требовалось такого огромного количества кухонной посуды, которое должно быть в каждом правоверном доме для сохранения пищи в безупречно кошерном виде. Что же касается материй, состоящих из смеси льна и шерсти, то их пани Гана, закрывая глаза и уши на всякие запрещения, упорно носила, так как они были красивы и дешевы.
Прибыв в Шибов, пани Гана была крайне поражена видом города, в который привез ее муж. Ни следа культуры! Никакого общественного сада, никакой музыки, играющей на открытом воздухе! Фонтанов — ни следа! Красивых дам и господ, любезно разговаривающих друг с другом, и тени нет! Французского языка — ни звука! Ужас! Пани Гана легла на постель и, зарывшись в перины, два дня и две ночи плакала, причитала, крича, что она тут не выдержит, что умрет и оставит своих детей сиротами! Однако она не умерла и встала с постели; нужно было распаковывать привезенные вещи, устраивать хозяйство и приодеть детей, чтобы, выходя первый раз на улицу, они удивили своей красотой и своими костюмами все это, как выражалась пани Гана с презрительным жестом, «простонародье». Дети были принаряжены и, выбежав, действительно удивили всех. Это было первое утешение, которое испытала несчастная изгнанница в этой глуши. Пришли потом и другие радости, подобные этой. Пани Гана удивляла, чем только могла: одеждой, мебелью, манерами, оборотами речи; и каждый раз, когда ей это удавалось, чувствовала себя невыразимо счастливой. В сущности, она была, может быть, еще счастливее, нежели в покинутом ею большом городе. Там она только смотрела на культурный мир, гордясь, что составляет крохотную частицу его; здесь же она была олицетворением культуры, всей суммой культуры, существовавшей в Шибове.