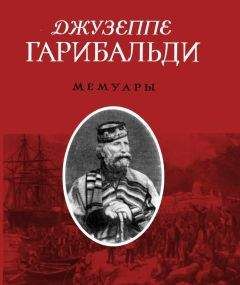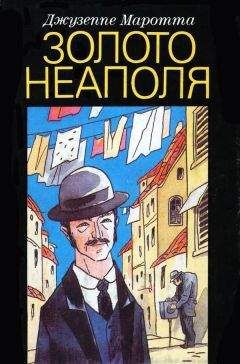Джузеппе Томази ди Лампедуза - Леопард
— Боже, Боже, как я хотела бы, чтоб он сейчас был здесь с нами!
Это восклицание растрогало всех своей очевидной искренностью, так как никто не знал истинных мотивов, его вызвавших. Так счастливо закончилась первая встреча. Немного погодя Анджелика и отец ее распрощались. Предшествуемые мальчиком из конюшни, который нес зажженный фонарь — зыбкое золото пламени окрасило в красный цвет листья, опавшие с платанов, — отец и дочь возвращались в тот самый дом, куда Пеппе Дерьму преградили вход заряды охотничьего ружья, разбившие его почки.
Вновь обретя спокойствие, дон Фабрицио ввел в обычай вечерние чтения. Осенью, когда вечера стали слишком темными для прогулок, вся семья после молитвы собиралась вокруг камина в ожидании обеда, и князь стоя читал своим домашним главы из какого-нибудь современного романа; в такие минуты он каждой своей порой излучал полное достоинства благодушие.
То были годы, когда благодаря романам создавались те литературные мифы, которые и сегодня господствуют над европейскими умами; однако Сицилия, отчасти из-за своей традиционной неспособности к восприятию нового, отчасти из-за всеобщего незнания каких-либо иностранных языков, а также, нужно сказать, из-за гнетущей бурбонской цензуры, орудовавшей на таможнях, не ведала о существовании Диккенса, Элиот, Жорж Занд и Флобера; не знали даже Дюма. Правда, два тома Бальзака благодаря некоторым ухищрениям попали в руки дона Фабрицио. Он, прочтя их, остался разочарован и одолжил Бальзака своему приятелю, которого недолюбливал, сказав при этом, что они, несомненно, являются плодом мощного, но причудливого и «одержимого» ума (теперь вместо «одержимого» сказали бы «маниакального») — как видите, это было слишком торопливое, но не лишенное известной остроты суждение. Отбор книг для этих вечерних чтений был далеко не на высоте, что вызывалось как уважением к целомудренным чувствам дочерей, так и религиозной щепетильностью княгини, не говоря уже о том, что чувство собственного достоинства ни при каких обстоятельствах не позволило бы князю заставить членов своей семьи выслушивать какие-нибудь «пакости».
Это было примерно десятого ноября. Подходило к концу пребывание в Доннафугате. Шел проливной дождь; свирепые порывы сырого мистраля, подобно Злобным пощечинам, обрушивали на окна потоки влаги; вдали раздавался грохот грома, то и дело капли дождя, пробив себе дорогу через примитивные сицилийские дымоходы, прорывались в камин, с мгновенье шипели и оставляли черные пятнышки на пылающих поленьях оливкового дерева.
Читалась «Анджола Мария», и в этот вечер как раз подошли к последним страницам: описание полных отчаяния странствий молодой девушки по замерзшей зимней Ломбардии заставляло цепенеть сицилийские сердца синьорин, сидевших в теплых креслах.
Внезапно в соседней комнате послышался шум, и в гостиную, запыхавшись, вбежал лакей Мими.
— Ваши превосходительства! — кричал он, позабыв о своих вышколенных манерах, — Ваши превосходительства, прибыл молодой синьор Танкреди! Он во дворе выгружает багаж из повозки. Святая Мадонна, в такую непогоду!
И лакей Мими убежал.
Неожиданное известие застало Кончетту в момент, который был далек от реальной действительности, и она воскликнула: «Милый?» Но звук собственного голоса вернул ее к безутешному настоящему, и, как легко можно догадаться, столь резкий переход от тайных, но пылких страстей прошлого к нынешней холодной яви причинил ей немалую боль; к счастью, в общем шуме ее возглас не был расслышан.
Все кинулись к лестнице; предшествуемые широко ступавшим доном Фабрицио, они быстро пересеяли темные салоны и спустились вниз; большая дверь, ведущая к наружной лестнице и во двор, была распахнута; ветер врывался в замок, неся с собой сырость в запахи земли, заставляя вздрагивать полотна портретов; на фоне озаренного молниями неба корчились деревья сада, а их листва шуршала, словно разодранный шелк.
В ту минуту, когда дон Фабрицио собирался выйти за дверь, на последней ступеньке появилась чья-то бесформенная и грузная фигура; то был Танкреди, закутанный в огромный голубой плащ пьемонтской кавалерии, который настолько пропитался водой, что, вероятно, весил не меньше ста кило и казался совершенно черным.
«Осторожно, дядюшка, не подходи ко мне, я весь как губка!» Свет лестничного фонаря осветил его лицо. Он вошел, расстегнул цепочку, которой плащ закреплялся у шеи, и сбросил с себя это одеяние, упавшее на пол с липким шумом.
От Танкреди, три дня не снимавшего сапог, несло потом, но для дона Фабрицио, который обнимал его в эту минуту, он был дороже собственных детей, для Марии-Стеллы — милым и предательски оклеветанным племянником, для падре Пирроне — заблудшей овечкой, которая неизменно возвращается в лоно церкви, а для Кончетты — дорогим привидением, напоминавшим ей о погибшей любви. Даже бедная мадемуазель Домбрей поцеловала его своими непривычными к ласкам губами, воскликнув при этом: «Tancrede, Tancrede, pensons a la joie d`Angelica» (Танкреди, Танкреди, подумаем о радости Анджелики), — так мало струн в ее собственной душе, что она, бедняжка, постоянно вынуждена была воображать радости других.
И Бендико вновь обрел своего дорогого товарища по забавам, того, кто, как никто другой, умел, сложив руку трубой, дуть ему в морду, но он выражал свой восторг по-собачьи, бешено прыгая по залу и нисколько не заботясь о предмете своего обожания.
Настала поистине трогательная минута: все собрались вокруг молодого человека, который был тем дороже, что не принадлежал к их семье в полном смысле слова, и тем милее, что ему теперь предстояло обрести любовь вместе с сознанием обеспеченности.
Да, это было трогательное, но и несколько затянувшееся мгновение. Когда улеглись первые порывы радости, дон Фабрицио обнаружил у порога еще две фигуры; с них также стекали капли дождя, и они также улыбались. Танкреди тоже заметил их и расхохотался.
— Простите меня, я потерял голову от волнения. Тетя, — сказал он, обращаясь к княгине, — я позволил себе привезти своего дорогого друга графа Карло Кавриаги; впрочем, вы его знаете, он столько раз приходил на виллу, когда служил у генерала. А второй — это улан Морони, мой денщик.
До тупости честное лицо солдата сияло, он стоял по стойке «смирно», в то время как вода стекала на пол с грубого сукна его шинели. Но графчик не стоял «смирно»: сняв грязную и утратившую, всякую форму шапку, он целовал руку княгини, улыбался и ослеплял девушек своими золотистыми усиками и неистребимой картавостью своего «р».
— Подумайте только, а мне сказали, что здесь у вас никогда не бывает дождей! Господи, вот уж два дня, как мы словно по морю плывем!
Затем он стал серьезен.
— Фальконери, где же, наконец, синьорина Анджелика? Ты затащил меня сюда из Неаполя, чтоб показать ее. Вижу здесь многих красавиц, но ее-то нет. — Он обернулся к дону Фабрицио. — Знаете, князь, его послушать, так это вторая царица Савская! Отправимся сейчас же с поклоном к formosissima et nigerrima (Красивейшей и самой чернокудрой). Пошевеливайся, олух!
Он выражался именно так, перенося жаргон офицерских столовых в хмурый салон с двойным рядом благолепно выписанных предков в броне, и это всех развлекало. Но дон Фабрицио и Танкреди знали куда больше его: они знали дона Калоджеро, знали, что за скотина его красивая жена, знали о невероятной запущенности дома этого богача — словом, знали все то, о чем и не ведает наивная Ломбардия.
Дон Фабрицио вмешался:
— Послушайте, граф, вы думали, что в Сицилии никогда не бывает дождей, теперь вы можете видеть, что у нас здесь настоящий потоп. Я не хотел бы, чтоб вы думали, будто в Сицилии не бывает воспаления легких, и затем оказались в постели с сорокаградусным жаром. Мими, — обратился он к лакею, — скажи, чтоб зажгли камины в комнате синьора Танкреди и в зеленой комнате для гостей. Пусть приготовят комнатку рядом для солдата. А вы, граф, отправляйтесь хорошенько просушиться и переоденьтесь. Я велю прислать вам пунш и бисквиты. Обед в восемь — через два часа.
Кавриаги слишком много месяцев провел на военной службе, чтоб не подчиниться столь властному голосу; он распрощался и тихо-тихо последовал за лакеем. Морони потащил за собой армейские сундуки и кривые сабли в футляре из зеленой фланели.
Тем временем Танкреди писал: «Дорогая моя Анджелика, я здесь, я здесь ради тебя. Влюблен, как кошка, промок, как жаба, грязен, как заблудший пес, и голоден, как волк. Поспешу к тебе, как только приведу себя в порядок и сочту себя достойным предстать пред очами самой прекрасной из прекрасных, — это будет через два часа. Мое почтение твоим дорогим родителям. Тебе… покуда ничего».
Текст был представлен на суд князя; будучи всегда в восторге от эпистолярного стиля Танкреди, тот прочел, рассмеялся и полностью одобрил. У донны Бастианы вдосталь времени, чтобы придумать себе новую болезнь; записка тотчас же была отослана.