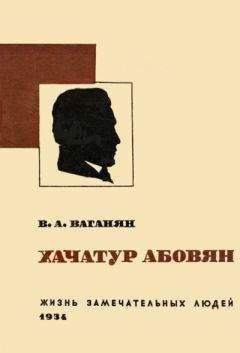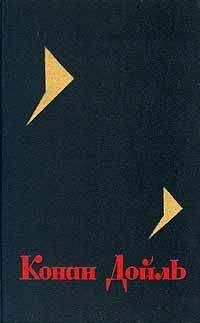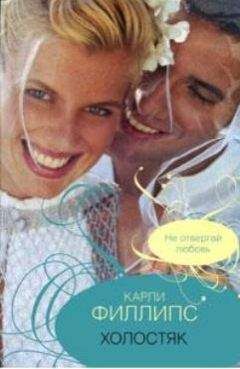Хачатур Абовян - Раны Армении
Да вот хотя бы тюркский язык: сами тюрки на нем не пишут, а только говорят, — причем насколько они грубее и неотесаннее нас! А между тем наш народ настолько вошел во вкус их языка, что песни, сказки, пословицы — все у нас по-тюркски, а не по-нашему — и это лишь потому, что образовалась привычка. Называют тюрков басурманами, а язык любят — не удивительно ли это! Слыханное ли дело, чтобы молоко кормилицы было лучше материнского? К столь смешанному языку мы еще примешиваем всякие там «прогуливаться» — и что же получается? Как же ты будешь разбирать евангелие, книги, богослужение?
К вам обращаюсь, к вам, подрастающие армянские юноши, светы вы мои ненаглядные, — десять языков изучайте, но своего родного языка, веры своей держитесь крепко.
Ну что такое один язык? — Неужели же трудно одному языку научиться? Разве не хотели бы вы тоже сочинять книги, сохранить имя свое в народе, — чтобы ваши книги перевели другие народы и чтобы имя ваше на веки вечные стало бессмертным? Как бы мы ни знали французский или немецкий, мы все равно не можем написать на этих языках такое произведение, чтобы оно среди французов или немцев составило себе имя: у них один ум, одно сердце, а у нас другое. Кроме того, среди них такое множество писателей, что их и не счесть.
Русский язык — язык нашего государства, — мы должны ставить его выше всех других, но затем взяться за свой, родной.
Разве не хотели бы вы тоже писать стихотворения, выражать свои мысли, свои чаяния, чтобы иностранцы знали, что и среди нас есть выдающиеся писатели, и еще больше оценили наш язык?
Дай бог здоровья тем родителям, чьи дети находятся у меня. Они первейшей целью поставили, чтобы дети их хорошо знали армянский язык. Даже в могиле не забуду я этого святого их слова.
До возвращения в Ереван у меня оказалось несколько месяцев свободного времени, — вот я и свернул с дороги, да как надолго!
Между тем зима прошла, наступило лето. Беда тому, кто в эдакую жару туда поедет, но я должен ехать. Кто желает, пусть едет со мной.
4Полуденная жара спадала. Горы и ущелья снова подняли головы, чтобы хоть немного вздохнуть. Солнце спокойным оком безмолвно взирало из-за Масиса на ереванскую крепость и понемногу собиралось идти на покой.
Густой сумрак, серая мгла окутала поля и ущелья, воздух отяжелел. Невмоготу было птице шевельнуть крылом, наседке — высунуть голову из гнезда. Движение прекратилось, голоса и звуки умолкли, все кругом затихло.
Кто поливал землю — тут же прилег у канавка. Пахарь заснул прямо в поле. Садовник забылся у себя, под деревом, вкушал отдых.
В селениях не видно было ни души, ни единой живой твари. Только где-нибудь на холме или же на склоне горы, дороге или в поле, нет-нет да показывался неясный силуэт всадника. Он качался из стороны в сторону, сидя на своей лошади, клевал носом, откидываясь назад, снова выпрямлялся и подымал голову, шевелил стременами и поводом, колотил лошадь ногами, хлестал плеткой, чтобы только она ускорила шаги и пораньше довезла его до дома.
А вот и другой всадник. Заложив руку за ухо, грустным, тонким голосом затянул он заунывное баяти, опустил поводья на шею лошади и так едет, мурлыча себе под нос, — тоже стремится поскорей добраться домой и дать отдых разбито-усталому своему телу где-нибудь под покровом тени либо достигнуть двери своего дома и увидеть семью свою, пока еще не стемнело, и тем облегчить сердце. Пахари также отпрягли волов, освободили их от надоедливого ярма, сами отошли в тенистое место и, оставив плуг тут, волов — там, разлеглись на берегу потока и погрузись в сладкий сон.
Там стадо коров, там овцы расположились в тени, на лужайке, лязгают челюстями, фыркают, жуют свою жвачку.
Пастух положил голову на камень и тоже прикорнул немножко, намереваясь, как только спадет жара, встать и с наступлением вечерней прохлады погнать стадо на хорошее злачное место и там пропасти его до зари.
Чуткие собаки, какая на выступе, какая на верхушке холма, а иная и у ног пастуха, положив головы между лап, с насупившимися мордами, лежат, притаившись, на случай, если бы вор или волк, другой ли какой зверь дикий отважился подойти близко, всегда готовые наброситься на него и растерзать на куски, защитить овец своего хозяина.
Ни травинки, ни зеленеющего кустика, ни единого цветка нигде не было видно, чтобы человек мог понюхать или полюбоваться, порадовать сердце и забыть длину своего пути, или же освежить свое разгоряченное, истомившееся от жары тело, — настолько горы и ущелья, долины и поля высохли, выгорели, опустели. Только отдельные сухие стебли да колючие верхушки кустарников торчали там и сям, вытянув головы, унылые, печальные, словно в замешательстве и тоске.
Одни черные вороны — охотники до мертвечины — да трусливые галки еще попадались взору: тут и там, на краю скалы, либо на верхушке крепостной башни, или же где-нибудь посреди дороги, слетались они стаей, сидели, кружились, клевали друг друга, дергали за крылья, стремясь вырвать друг у друга случайную добычу, поделить ее, отдать тоже своим птенцам или же унести с собою.
Змеи, скорпионы, ящерицы, жуки и всякого рода иная тварь — саранча, мошкара — затеяли базар. Все тихонько движется — из-под кустарника, с верхушки утеса, в траве. Кто дрыгает хвостом и головой, прыгает и вновь притихает, кто ползает по каменистому грунту и шипит. Все свистит, стрекочет, пищит, звенит, все в оживленье, все хочет насладиться жизнью. Иные повысовывали головы из норок и, греясь на солнце с острыми вытаращенными глазками, молча, тихо прислушиваются, опешившие, очарованные, глядят по сторонам, ожидая, когда утихнет вся эта суета и когда можно будет снова выйти, подышать, поблаженствовать, добыть себе дневное пропитание и опять вернуться в свою норку заснуть, отдохнуть.
Другое дело — несчастная сова! В расщелине скалы или на краю камня сидит она, вобрав в себя голову, насупившись и повесив нос, вся отяжелевшая, глядит под ноги и оплакивает горькую свою судьбу.
Враг всех кур — коршун — распростер крылья, наточил когти и, разжимая их и сжимая, обтирая клюв или перебирая перышки на груди, парит в поднебесье. Он опустил голову ниже груди, водит по сторонам зоркими своими очами и кружится, готовясь во мгновение ока упасть камнем и ударить в голову одного из щуплых, еще не оперившихся цыплят, сидящих тихо и смирно кучкой, носик к носику, под крылом матери, то почесывая ей голову, то дергая ее за крыло, пищá, поклевывая и чутко прислушиваясь к ее кудахтанью и клохтанью, — или же вонзиться в спину несчастного беспомощного перепела и, радуясь его писку и крику, взвиться с ним вверх, разорвать его, общипать и принести в жертву ненасытной своей утробе.
Вот он — превосходный, непревзойденный образец жестоких варваров-персов, лютых насильников, губителей народа и страны потомков Гайка!
Так замерла, так затихла природа, — ниоткуда не слышно ни шороха. Только время от времени издали веял легкий ветерок, скользил по листьям деревьев, шелестел, тепло и нежно касался щек и губ человека, проносился и исчезал в колючем кустарнике, травах, скалах и ущельях.
Села, поля, овраги, рассеянные по равнине, померкнув и умолкнув, словно погруженные в дым, похожие на клочья черной тучи или на погорелые, выжженные места, чернели тут и там, лишь смутно различимые для глаза.
С запада река Аракс, подобная стреловидной змее или серебряному поясу, показывала из ущелий острый, лучезарный свой лоб и голову и с тихим, еле слышным лепетом катилась по равнине, легонько ударяя ладонями по подножию Масиса и гладя его, — но вдруг, искоса на него взглянув, забурлив и зашумев, повертывала голову и стремилась дальше, принимала в себя Зангу и Гарни и, резвясь, играя, сверкая, уносилась дальше вместе с милыми сестрами, губы в губы, грудь с грудью, спина к спине, пока они, лаская друг друга, не притомлялись наконец и, сомкнув глаза, не погружались в сон, разбитые и усталые, на ровном лоне Шарура[91].
Окинешь взором эту печальную равнину и вдруг увидишь, что покрытое тучами небо хочет как бы растоптать горы и ущелья, хватить по голове Алагяз, Масис и все другие горы, сорвать их с места и повергнуть на землю за то, что осмелились они так высоко поднять свои вершины, что облака, не чуя опоры в небе, поссорившись с лазурной матерью своей, спускаются вниз, клубами нагромождаются на горных главах и так наседают друг на друга, так теснятся, что сгоняют одни других, толкают, откидывают и занимают их место.
В такое-то время некий черный призрак наподобие тонкой змеи, тихонько вытянув голову и выпрямившись, тяжелым взором поведя направо и налево, повертевшись на верхушке высокого минарета, будто спросонья, осторожно поднял руку, приложил к уху, откинул назад голову и, словно чахоточный, начал взывать протяжным голосом, как из глубины ущелья — Аллау-Алакпару!.. (Аллаху всевышнему).