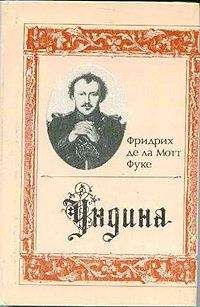Томас Манн - Иосиф-кормилец
— Меня звали Озарсиф, — ответил Иосиф.
— Тебя так зовут, ты хочешь сказать, тебя так зовут! Довольно странно, что тебя всегда так зовут. Пойду доложу и назову твое имя. Merci beaucoup, друг мой, — сказал он, пожимая плечами, дворецкому, который тотчас же удалился, а сам, не разгибая спины, шмыгнул за занавеску.
Оттуда глухо доносились голоса, особенно один, юношески нежный и ломкий, который потом умолк. Вероятно, горбун угодливо шепелявил что-то на ухо фараону. Потом он вернулся с поднятыми бровями и прошептал:
— Фараон зовет тебя!
Иосиф вошел.
Он оказался в лоджии, не настолько большой, чтобы по праву носить название «садовый зал», которое ей дали, но на редкость красивой. Опираясь на две колонны, выложенные цветным стеклом и сверкающими каменьями и обвитые листьями винограда, написанными так живо, что их можно было принять за настоящие, с полом, на плитах которого были изображены то дети верхом на дельфинах, то каракатицы, эта лоджия выходила тремя большими открытыми окнами в сады, чью красоту она целиком вбирала в себя. Там видны были светящиеся клумбы тюльпанов, какие-то чужеземные, с удивительными цветами кусты и посыпанные золотым песком дорожки, которые вели к лотосовым прудам. Глазам открывалась глубокая перспектива островков, мостиков и беседок, а вдали сверкали изразцы, которыми был облицован летний домик. Сама веранда сияла красками. Ее боковые стены были покрыты росписью, совершенно непохожей на обычную египетскую. Эта роспись являла глазу людей и нравы нездешних мест, явно островов моря. Сидели и шествовали какие-то женщины в роскошных, пестрых и твердых юбках, с обнаженной над узким корсажем грудью, и волосы их, завитые выше начельника, ниспадали на плечи длинными косами. Им прислуживали пажи в невиданных нарядах, держа в руках остроконечные кружки. Какой-то маленький царевич с осиной талией, в двухцветных панталонах и барашковых сапожках, с украшенной лохматыми перьями короной на кудрях, самодовольно шагал по сказочно пышным травам, стреляя из лука в бегущих животных, движение которых художник передал тем, что они не касались земли копытами, а парили над ней. На других картинах над спинами беснующихся быков кувыркались в воздухе акробаты, забавляя взиравших на них с балконов и из окаймленных пилястрами окон дам и мужчин.
Такая же печать чужеземного вкуса лежала и на художественных изделиях, служивших здесь усладой для глаз, на глиняных, расписанных мерцающими красками вазах, на инкрустированных золотом барельефах слоновой кости, на великолепных, чеканной работы кубках, на чернокаменной голове быка с золотыми рогами и глазами из горного хрусталя. Когда вошедший поднял руки, взгляд его сосредоточенно и скромно обошел открывшуюся перед ним сцену и лиц, о присутствии которых его уведомили.
Вдова Аменхотепа-Небмара восседала прямо напротив него на высоком, с высокой скамеечкой кресле, против света, перед средним из сводчатых, доходивших чуть ли не до пола окон, так что ее лицо, бронзовость которого и без того подчеркивалась одеждой, казалось в тени еще темнее. Однако Иосиф узнал ее своеобразные черты, уже знакомые ему по нескольким царским выездам: изящно изогнутый носик, толстые, окаймленные морщинами горькой умудренности губы, дугообразные, подведенные кисточкой брови над маленькими, глянцевито-черными, глядевшими холодно и внимательно глазками. На матери не было золотой коршуновой диадемы, в которой сын Иакова видел ее во время официальных церемоний. Ее несомненно уже поседевшие волосы — ибо ей было под шестьдесят — окутывала, не закрывая золотой скобки, охватывавшей лоб и виски, серебристая сетка, с макушки которой, извиваясь, спускались две вздыбившиеся на лбу золотые змеи — сразу две, словно она унаследовала и змею своего слившегося с богом супруга. Круглые пластинки из тех же драгоценных камней, из каких был изготовлен ее воротник, украшали уши Тейе. Эта маленькая энергичная женщина сидела очень прямо, очень осанисто и степенно, так сказать, на старый, иератический лад, утвердив руки на подлокотниках кресла, а ноги, вплотную одна к другой, на высокой скамеечке. Ее умные глаза встретились с глазами почтительно вошедшего Иосифа, но, бегло скользнув по нему вниз, с понятным и даже предписанным равнодушием тотчас же снова повернулись к сыну, причем горькие борозды вокруг ее толстогубого рта сложились в насмешливую улыбку по поводу того ребяческого волненья и любопытства, с какими фараон глядел на этого хваленого и долгожданного толкователя.
Молодой царь земли Египетской сидел слева у расписной стены на львиноногом, обильно обложенном подушками кресле с косой спинкой, от которой он оторвался, с живостью подавшись вперед, засунув под сиденье ноги и охватив подлокотники своими тонкими, в скарабеях руками. Нужно прибавить, что эта похожая на стойку перед прыжком, полная напряженного внимания поза, в какой Аменхотеп, повернувшись направо, причем его серые, с поволокой глаза раскрылись как только могли широко, — что эта поза, в какой Аменхотеп разглядывал новоприбывшего толкователя своих сновидений, возникла не вдруг, а складывалась постепенно, рывками, в течение целой минуты, — вот как долго это длилось, — и дошла до того, что в конце концов фараон и в самом деле приподнялся с кресла и передал всю свою тяжесть вцепившимся в подлокотники рукам, пясти которых выдавали его напряженье своей игрой. При этом предмет, лежавший у него на коленях, какой-то струнный инструмент, упал с тихим и глухим звоном на пол, но тотчас был поднят и подан фараону одним из стоявших перед ним художников, которых он поучал. Поднявшему пришлось несколько мгновений держать инструмент в протянутых к фараону руках, прежде чем тот, закрывая глаза, взял его, и, откинувшись на подушки кресла, принял, по-видимому, снова ту позу, в какой он дотоле совещался с художниками: позу чрезвычайно небрежную, расслабленную и удобную, ибо в сиденье его кресла имелась впадина для подушки, слишком мягкой для того, чтобы фараон в ней не утонул, и поэтому он сидел не только откинувшись в сторону, но и очень глубоко, бессильно свесив с подлокотника одну руку, а большим пальцем другой тихо теребя струны чудесной маленькой лютни, что лежала у него на коленях, и закинув ногу на ногу, отчего его обтянутые полотном колени высоко задрались, а кончик одной ноги покачивался тоже на довольно большой высоте. Золотая застежка сандалии проходила между большим и вторым пальцем.
Дитя пещеры
Нефер-Хеперу-Ра-Аменхотепу было тогда столько лет, сколько было тридцатилетнему сейчас Иосифу, когда он «пас скот вместе с братьями своими», то есть семнадцать. Однако казался он старше, причем не только потому, что в его местах люди быстрей созревают, и не только из-за слабого здоровья, но также из-за ранней необходимости соприкасаться со всей полнотой единого мира, из-за разнообразных впечатлений, отовсюду осаждавших его душу, из-за своего фанатически ревностного, наконец, радения о божестве. При описанье его лица, глядевшего из-под круглого синего парика с царской змеей, который был на нем сейчас поверх полотняной шапочки, никакие тысячелетия не отпугнут нас от того точного сравнения, что оно походило на лицо молодого английского аристократа из несколько уже отцветшего рода: длинное, надменно-усталое, с тяжелым, значит, отнюдь не срезанным и все-таки слабым подбородком, с узкой, немного вдавленной переносицей, делавшей еще заметнее широкие, чуткие ноздри, и с непроглядно-мечтательными, всегда полузакрытыми глазами, утомленность которых поразительно не вязалась с краснотой его очень толстых губ, краснотой не искусственной, а природной, болезненной. Таким образом, в этом лице была смесь мучительно запутанной духовности и чувственности — с оттенком ребячливости и, возможно даже, озорства и распущенности. Красивым и прекрасным его никак нельзя было назвать, но какой-то тревожно-притягательной силой оно обладало; не приходилось удивляться, что народ Египта относился к фараону с нежностью и давал ему цветистые имена.
Не красивым, а скорее необычным и местами немного несуразным казалось и едва достигавшее среднего роста фараоново тело, когда оно, очень отчетливо вырисовываясь под легкой, хотя и изысканно драгоценной одеждой, с небрежностью, которая шла, однако, не от невоспитанности, а от оппозиционного стиля жизни, возлежало в подушках: длинная шея, узкая и дряблая грудь, наполовину прикрытая великолепным воротником из каменных лепестков, тонкие, в чеканных браслетах руки, с малолетства несколько вздутый живот, которого не прятал открытый спереди гораздо ниже пупа, но зато сзади высокий, облегавший почти всю спину набедренник с украшенным змейками и бахромой передним клапаном. К тому же ноги его были не только слишком коротки, но и вообще непропорциональны из-за чрезмерно полных бедер и очень худых, чуть ли не куриных голеней. Аменхотеп требовал, чтобы скульпторы не только не приукрашивали этой его особенности, но даже преувеличивали ее, дорожа правдой. Никак не верилось, что главной страстью этого избалованного мальчика, явно принимавшего драгоценное свое происхождение как нечто само собой разумеющееся, было познание высшего, и, стоя в стороне, Авраамов потомок дивился, в сколь разных, в сколь чужих и чуждых друг другу людях живет на земле забота о боге.