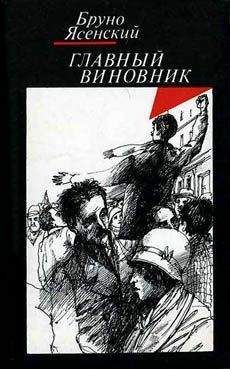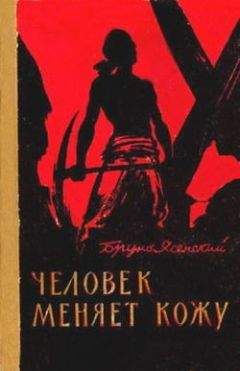Бруно Ясенский - Я жгу Париж
Голод. В Париже будто бы вербуют белых офицеров в армию Чжан Цзо-лина. Приехал. Враки – ничего подобного. Без средств. Турне по эмигрантским комитетам. Пособий не выдают. Таскал чемоданы на Северном вокзале. Работал на автомобильном заводе у Рэно как чернорабочий. Сократили. Опять на мостовой. Ночлежки под мостом. Единовременное пособие. Шоферский экзамен. И, как венец многолетних скитаний, – бессмертное, историческое такси.
С такси выжить уже было можно. Хуже – унижения. Париж кишел знакомыми. Папиными и его собственными. Не все приехали ни с чем. Некоторые, наоборот, ухитрились привезти кое-что покрупнее. В Париже с деньгами – не трудно. Поосновывали предприятия, делают дела. У многих уже собственные машины. Другие днем и ночью разъезжают на такси. Неприятные, затруднительные встречи. Возя знакомых и протягивая руку за чаевыми, отворачивал лицо в сторону. В записной книжке: адреса всех публичных домов и домов свиданий.
Среди знакомых не только мужчины, зачастую и женщины. По вечерам перед «Флоридой»[53] – пьяные, в обществе общипанных французиков, на такси в отель. Другие даже не в отель – на месте, в такси. Сидение мягкое – все удобства. В Москве была гимназисткой: косичка, неприличного словца не выговорит вслух, папаша – тайный советник, и все как полагается. Вся Этуаль – один сплошной дом терпимости. Не осуждал. Что же, может, действительно жить не на что. Каждый зарабатывает, чем умеет… Вплоть до одной, самой оскорбительной встречи.
Была у него в Москве невеста. Дочь генерала Ахматова – Таня. Ангел. Глаза – лазурь. Возвышенная. Вся – Бальмонт и Северянин. На рояли играет – артистка. Были помолвлены до революции. Когда уезжал на фронт, поцеловала его в губы, и две теплые слезинки потекли по щекам, остались навсегда в маленьком флакончике сердца.
Из России уехали одними из первых. Ходили слухи: живут в Париже. Предусмотрительный генерал деньги поместил в заграничных банках. Говорят, в Париже, играя на бирже, имущество удвоил.
Приехав в Париж летом, Соломин отыскал их адрес. Сказали: господа в Ницце. Когда вернутся, не можем сказать.
И вот как-то раз, отвозя клиентку в знакомый дом свиданий, увидел: выходит из дверей она. Не верил собственным глазам: села в такси, небрежно бросила адрес.
По дороге обдумывал план. Не скажет ни слова, только при расчете снимет фуражку, чтобы узнала. Перед домом, однако, не выдержал. Останавливая машину, обернулся к даме и, снимая фуражку, отчетливо сказал:
– Много ли подрабатываете таким манером, Татьяна Николаевна?
Испугалась, потом – в слезы. Слова фонтаном. Папа скупой, высчитывает каждую копейку. Трудно же в штопаных чулках ходить. Столько пережили…
– Где же это – в Ницце?
Поморщилась. Хлопнула дверцей. Не обязана давать отчет в своих поступках каждому извозчику (так прямо и сказала: «каждому извозчику», – Соломин хорошо запомнил). Сунула в руку ему десять франков и исчезла в подъезде.
Хотел было бежать за ней, бросить ей обратно в лицо ее десять франков, обругать последними словами. Заметил на пороге лакея в белом накрахмаленном галстуке. Стало вдруг стыдно собственной шоферской формы, стыдно оказаться в смешном положении. Уехал. Деньги решил отослать по почте.
Впрочем, в тот же вечер пропил их в русском шоферском кабаке под сиплую «Волгу» граммофона, желая испить до дна горечь унижения, падения («втоптали в грязь»).
Но пощечину запомнил. Среди тысячи и одного унижения запомнил навсегда это, повесил на грудь, как маленькую замасленную ладонку, время от времени вытаскивая ее оттуда, чтобы растравить себя, чтобы не забыть. И в мыслях длинными вечерами строил сложные, фантастические планы возмездия.
Вечером на заработанные за целый день деньги брал с авеню Ваграм третьестепенную девочку, обязательно русскую, и, проделав все что следует, сунув ей в руку двадцать франков, бил по физиономии, ругая последними словами. Вскоре ни одна девка с Ваграм не хотела идти с ним ни за какие деньги.
Проходили месяцы, за месяцами – годы. Возвращение в Россию с оружием в руках во главе какой-то воображаемой роты белых, о котором мечтал по вечерам, лелея эту мечту, как противоядие против дневных унижений, становилось все более и более сомнительным. Собственно говоря, он перестал уже в него верить. В этом еще уверяли упорно лишь одни эмигрантские газеты. Понимал: редакторам тоже жить на что-нибудь надо. Бросил читать газеты.
Те, большевики, уселись прочно – не сдвинешь с места; с шумом отпраздновали свое десятилетие, собирались «вековать». Никто не готовился выступать против них с оружием. Возвращение, возможное еще после двух, трех, четырех лет, после десяти уже теряло всякую видимость правдоподобия.
Некоторые, впрочем, возвращались, выхлопотав себе в консульстве советский паспорт. Возвращались даже офицеры. Узнав о каждом новом ренегате, Соломин только стискивал крепче зубы и презрительно отплевывался. О возвращении в Россию таким путем не думал никогда. Коммунистов ненавидел каждым квадратным сантиметром своей огрубелой кожи. Разрушили, жизнь. Убили папу. Конфисковали имение. Заставили месяцами подыхать с голоду, развозить по Булонскому лесу расфуфыренных шлюх, хапать чаевые. Быть простым извозчиком ему, ротмистру Соломину, сыну полковника Соломина? Нет, этого забыть нельзя. Возвращаться? Служить батраком у денщика Леонтия? Нет, лучше уж здесь катать всю жизнь разодетых шлюх, развозить по публичным домам отъевшихся французских папаш. Только бы не стать подлецом… И офицерский гонор поддерживал.
Жизнь становилась все более нелепой. Хорошо, можно быть еще извозчиком временно: год, два, десять. Знать: до поры до времени. Но подумать: «Останусь извозчиком навсегда, на всю жизнь. Вот это моя жизнь, и другой не будет», – это не могло как-то уместиться в голове ротмистра Соломина. Чувствовал ясно: что-то должно произойти – взрыв, катаклизм, катастрофа. Перемешать карты. Так дальше немыслимо.
И каждое утро, просыпаясь от звонка будильника и натягивая на себя замасленный шоферский костюм, он с горечью обнаруживал: еще нет.
Чуме обрадовался, как долгожданному катаклизму, который сразу перемешал карты. Такси реквизировали сейчас же, на третий день, для перевозки больных, жить стало как-то свободнее. Париж, как раствор, в который кто-то влил сильный ревелятор, разлагался на глазах у всех на отдельные слои.
Королевские камло при поддержке католического населения предместья Сен-Жермен, овладели левым берегом от Инвалидов до Марсова поля, провозгласив восстановление монархии.
Выпираемая из образующихся поочередно государств бесприютная русская эмиграция, следуя примеру других, окопалась в Пасси, объявив этот квартал белой русской концессией. Составленное наспех временное правительство новой концессии для защиты ее границ восстановило белую гвардию.
Через два дня ротмистр Соломин в высоких блестящих сапогах, при эполетах, с кокардой въезжал в реквизированный особняк с предоставленным в его распоряжение белобрысым денщиком и отдавал по телефону короткие приказы об очищении территории Пасси от нерусских элементов.
Впрочем, блаженство было слишком полное, чтобы быть долговременным. Давала об этом знать чума, шаловливо помахивающая флажком красного креста из проезжающих под окнами автомобилей. Ротмистр Соломин понял: надо жить, пока живется, и, не откладывая, свести с жизнью все старые счеты.
Увы! Те, с которыми надо свести самые тяжелые и крупные счеты, находились за тысячи километров от кордона, недосягаемые и неуловимые. Надо было довольствоваться суррогатом. И ротмистр Соломин сразу вспомнил: есть ведь полпредство на улице Гренель и целый штаб «представителей», – правда, не так уж много, но зато настоящих, неподдельных, «ответственных», – известно, первого попавшегося мерзавцы в Париж не посылают.
Несчастным стечением обстоятельств улица Гренель вместе со всем инвентарем вошла в состав импровизированной Бурбонской монархии Сен-Жермен: по слухам, весь персонал советской миссии в данное время комфортабельно проживал в одном из зданий предместья Сен-Жермен, преображенном наспех в тюрьму, под стражей французской гвардии, подтрунивая над законной белой властью, восстановленной по соседству, на территории Пасси.
Ротмистр Соломин первый предложил категорически потребовать от французских властей выдачи в руки белой гвардии советских узников как подлежащих исключительно русскому суду, единственно имеющему право распорядиться их участью. Предложение ротмистра Соломина получило одобрение главного командования и было поддержано всей армией. Немедленно была избрана специальная комиссия, в состав которой вошел среди других и ротмистр Соломин. Комиссии поручалось завязать переговоры с правительством монархии Сен-Жермен.
Французы ставили препятствия. В сущности они не противились выдаче большевиков, но обусловливали ее крупными денежными возмещениями со стороны русского правительства французским гражданам, проживающим в Пасси и пострадавшим вследствие своей семитской наружности во время последнего погрома.