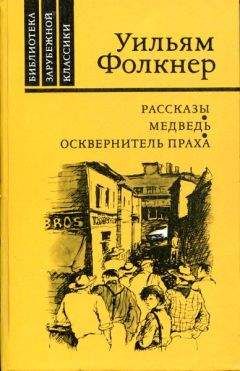Уильям Фолкнер - Осквернитель праха
— Это все, что я могу сделать. Больше я ничего не могу сделать.
— Может быть, нам всем вместе посредине идти, — сказал он громко, слишком громко, вдвое громче, чем намеревался или даже мог подумать, должно быть, на мили было слышно, здесь в особенности, на весь этот край, уже безнадежно разбуженный, настороженный бессонным, свистящим — как, наверно, сказала бы Парали и, уж конечно, старик Ефраим, да и Лукас тоже, — «шабашем» сосен. Она сейчас смотрела на него, он чувствовал это.
— Я не смогу объяснить этого твоей маме, но Алеку Сэндеру здесь совсем не место, — сказала она. — Вы оба идите прямо следом за мной, а лошадь пусть идет сзади. — И она повернулась и пошла, и, хотя он так и не понял, какой смысл в этом, потому что в его понимании самое слово «засада» означало «сбоку, со стороны», они все пошли гуськом вниз по дороге, к тому месту, где Алек Сэндер спрятал машину в подлеске; и он шел и думал: «Если бы я был им, вот здесь бы это произошло», — и она тоже так думала. — Постойте, — сказала она.
— Как же вы можете нас загородить, раз мы не стоим рядом? — сказал он. И на этот раз она даже не сказала: «Это все, что я могу сделать», — а просто стояла, пока Алек Сэндер прошел мимо нее в кусты, запустил мотор, выехал на дорогу и повернул машину так, чтобы можно было спускаться с холма, мотор работал, но фары еще не были включены, и она сказала: — Подвяжи поводья и пусти его. Разве он сам не придет домой?
— Думаю, что придет, — сказал он. И вскочил в седло.
— Тогда привяжи его к дереву, — сказала она. — Мы вернемся сюда, как только повидаем твоего дядю и мистера Хэмптона…
— Ну, тогда уж мы наверняка увидим, как он трусит по дороге, а впереди него, может быть, тот самый мул или конь, — сказал Алек Сэндер. Он включил зажигание, потом снова выключил его. — Чего уж там, садитесь, поедем. Либо он нас подстерегает, либо нет; нет — так все хорошо, а если да, чего же он так канителится, подпустил нас к машине, теперь уж он все равно опоздал.
— Тогда поезжай прямо следом за пикапом, — сказала она. — Мы поедем медленно.
— Ну нет, — сказал Алек Сэндер. — Поезжай вперед; нам все равно придется тебя ждать, когда приедем в город.
И тогда — ему не требовалось понуканья — он пустил Хайбоя вниз с холма, натянув поводья так, что он не мог опустить головы; едва пикап двинулся с места, его огни настигли их, а Хайбой, едва они спустились с уступа, почувствовал себя на ровном месте, и даже тот короткий путь, что оставался до шоссе, пытался взять галопом, но он осадил его и заставил идти шагом, пока они не выехали на шоссе, огни фар то появлялись, то исчезали, пока пикап не спустился к подножию холма, и только тогда он ослабил узду, и Хайбой пошел рысью, как всегда фыркая и стараясь вытолкнуть удила, думая, как всегда, что вот ему сейчас удастся так фыркнуть, что удила сдвинутся и попадут ему прямо в зубы, и он бежал, пытаясь перейти на галоп; огни пикапа взметнулись, когда он свернул на шоссе, копыта Хайбоя отбили восемь глухих ударов по мосту, он пригнулся навстречу темному ветру и пустил его во весь опор, и так они летели полмили, и огней пикапа даже не было видно, а затем он осадил Хайбоя, и тот пошел своей длинной, быстрой, тряской иноходью, и так они проехали почти целую милю до того, как пикап нагнал и обогнал их, и его красный задний фонарь сначала совсем близко впереди, потом — все дальше, дальше и вот уже исчез, но по крайней мере он уже выбрался из этих сосен, избавился от этого обступившего его угрюмо подстерегающего, равнодушного ко всему, но ничего не упускающего, нашептывающего всей округе свиста: «Смотри, смотри», — но ведь где-то они и сейчас нашептывали это, и, конечно, теперь это нашептывание длилось уже так долго, что весь Четвертый участок, все Гаури, Инграмы, Уоркитты и Фрейзеры, все они должны были к этому времени услышать, и лучше уж об этом не думать, и он тут же перестал думать — мигом, едва только вспомнил, — и, сделав последний глоток из чашки, поставил ее на стол в ту самую минуту, как отец, вскочив из-за стола, с грохотом отодвинул стул и сказал:
— Пожалуй, я все-таки пойду поработаю. Надо же кому-нибудь позаботиться и о пропитании, пока вы тут в фараоны и разбойники играете. — И вышел.
А кофе, видно, все-таки как-то подействовал на его, как он называл, мыслительные способности или на то, что люди называют способностью рассуждать, потому что он теперь разгадал отца; его гнев — это было чувство облегчения после всего случившегося, и оно должно было найти в чем-то выход и вылилось в гневе не потому, что он запретил бы ему пойти, а потому, что ему-то самому ведь не представилось такого случая, и это его напускное, презрительно-ироническое высмеивание их храбрости, его и Алека Сэндера, касалось не столько разрытой в темноте могилы, сколько настойчивости мисс Хэбершем; в сущности, это было неуклюжее вышучивание и низведение всего события на уровень чего-то вроде охоты на ведьм в детском саду, что, вероятно, было по-своему, по-мужски, тем же нежеланием поверить, как говорил дядя, что он уже достаточно вырос, чтобы самому застегивать себе штаны; на этом он бросил размышлять об отце, услышав, что мать уже выходит из кухни, и отпихнул стул и, поднявшись, вдруг обнаружил, что кофе, оказывается, — это не только то, что он о нем знал, а нечто гораздо большее, но никто не предостерег его, что он вызывает видения, вроде как кокаин или опиум; он увидел: внезапно у него в глазах отцовский гвалт и крик рассеялся и исчез, как развеянный ветром дым или туман, не просто открыв, а обнажив человека, который дал ему жизнь и теперь оглядывался на него через непроходимую пропасть — от той минуты зачатия — не только с гордостью, но и с завистью тоже; вот в дядином риторическом, уничиженном самоистязании было что-то надуманное, а отец — он поистине глодал горькую кость своего непоправимого разрыва с временем, сожаления, что он слишком рано или слишком поздно появился на свет, что это не ему сейчас шестнадцать лет и не он скакал в темноте за десять миль, чтобы спасти от веревки старого, дерзкого, одинокого негра.
Но по крайней мере он хоть не засыпает. Это как-никак сделал кофе. Ему все еще хотелось спать, но теперь он уже не мог. Желание осталось, но теперь было еще и возбуждение, с которым надо было бороться, подавлять его. Сейчас было уже больше восьми. Один из загородных школьных автобусов проехал мимо, когда он приготовился отъехать от дома на пикапе мисс Хэбершем, и на улице, наверно, полно детей, особенно оживленных с утра в понедельник, с книжками и бумажными мешочками с едой, чтобы позавтракать в перемену, а за автобусом ехала вереница машин и грузовиков, облепленных деревенской грязью, покрытых пылью, и такая непрерывная и тесная, что дядя с мамой уже успеют до тюрьмы доехать, прежде чем ему удастся влиться в нее, потому что в понедельник — скотные торги в торговых дворах позади Площади, и он представил себе эти скопища пустых машин и грузовиков вдоль всего тротуара у суда, сгрудившихся тесными рядами, как свиньи у кормушки, и торговцев скотом с толстыми палками, которые, даже не останавливаясь, идут прямо через Площадь в проход к торговым дворам и, жуя табак или незажженную сигару, ходят из загона в загон среди аммиачной вони, навоза, и смазки, и рева телят, и топанья и фырканья лошадей и мулов, и среди подержанных машинных и плужных частей, оружия, сбруи, часов, и только жены (те немногие, что приезжали, поскольку день торгов — это не суббота, а мужской день) толкутся возле Площади по лавкам, а на самой Площади пусто, если не считать машин и грузовиков, и так будет до полудня, когда мужчины придут на часок с торгов, чтобы встретиться с женами в ресторанах или кафе.
Тут он с усилием — теперь это уже был не рефлекс — оторвался не от сна, а от видений, его гипнотический транс продолжался даже и на улице при ярком дневном солнечном свете, и сейчас, когда он ехал в пикапе, который до вчерашнего вечера он и не отличил бы от других, но который с тех пор, с того вечера стал такой же неотъемлемой частью его памяти, его переживаний, его дыхания, каким навсегда останется свистящий шорох заступа, врезающегося в рыхлую землю, или скрип железной лопаты по сосновой крышке; двигаясь в каком-то мираже полнейшей пустоты, в которой не просто не было вчерашнего вечера, но не было даже и субботы, он вдруг спохватился, как если бы только сейчас увидел, что ведь в школьном автобусе не было детей, а только взрослые, и в потоке машин и грузовиков, следующих за автобусом, а теперь, когда ему наконец удалось влиться в этот поток, — и за ним (в некоторых из них даже и в понедельник, в день торгов, должны были бы сидеть негры, а в субботу половина открытых грузовиков бывала битком набита черными мужчинами, женщинами, детьми в плохоньких дешевых нарядах, в которых они ездили в город) не было ни одного черного лица. И на улице ни одного школьника, идущего в школу, хотя он, не слушая, слышал, как дядя говорил по телефону с директором, тот спрашивал его, можно ли сегодня детям в школу, и дядя сказал: «Да», и вот уже, подъезжая к Площади, он увидел еще три желтых автобуса, предназначенных для того, чтобы возить в школу детей из округа, но хозяева этих автобусов, они же подрядчики и шоферы, использовали их по субботам и в праздники как платный пассажирский транспорт; а вот и Площадь, стоянки машин, грузовиков — все как всегда, но на самой Площади не как всегда, не безлюдно; мужчины не валят толпой к торговым рядам, а женщины в лавки, так что, когда он подъехал к стоянке и остановил пикап позади дядиной машины, он уже увидел то незримое, бессмысленное, глухое брожение, прерывистый учащенный пульс и гул толпы, заполнившей Площадь, и — как на карнавальном шествии или футбольном матче — выплеснувшейся на улицу, и скучившейся на тротуарах напротив тюрьмы, и хлынувшей туда, дальше, мимо кузницы, где он стоял вчера, стараясь быть незаметным, как если бы все собрались здесь смотреть на торжественный парад (и почти посреди мостовой, так что машины и грузовики, все еще двигавшиеся непрерывным потоком, вынуждены были объезжать ее, стояла кучка человек в двенадцать, словно группа лиц, принимающая парад, и в самом центре ее он узнал форменную фуражку со значком городского полисмена, который в этот день и в этот час должен был бы стоять перед школой и регулировать уличное движение, чтобы дети могли спокойно переходить улицу, и ему даже не пришлось напрягать память, оно само вспомнилось, что фамилия полисмена Инграм, этот Инграм с Четвертого участка ушел в город подобно некоторым другим отступникам клана Четвертого участка, которые уходили в город, и женились на городских девушках, и становились парикмахерами, приставами и ночными сторожами, — так маленькие немецкие князьки покидали свои Бранденбургские холмы, чтобы вступить в брак с наследницами европейских тронов), мужчины, женщины и ни одного ребенка, обветренные деревенские лица, загорелые шеи, руки и яркие ситцевые платья, сплошная толкучка на Площади и на улице, как если бы и лавки сегодня были закрыты, заперты, и они даже не глядят на голый фасад тюрьмы с единственным заделанным решеткой окном, которое пустует и безмолвствует вот уже двое суток, а просто толкутся, теснятся — не в ожидании, не в предвкушении и даже без особой настороженности, а просто пока еще в той предварительной стадии оседания по местам, как перед поднятием занавеса в театре, и он подумал: вот это что — праздник; обычно — день развлечения для детей, ну а здесь наоборот; и тут он вдруг понял, что он все представлял себе совсем не так: нет, это не субботы не было, а только вчерашнего вечера, который для них еще и не наступил, — ведь они не только не знали про вчерашний вечер, но ни один человек, никто, даже сам Хэмптон, не мог им о нем рассказать, потому что они не поверили бы ему, и тут словно какая-то завеса или перепонка вроде как на глазах у кур — а он даже и не подозревал, что она у него есть, — спала с его глаз, и он всех их увидел впервые, те же обветренные и все еще совсем не настороженные лица, те же выцветшие чистые рубахи, и брюки, и платья, но не толпа, ждущая поднятия занавеса над театральным вымыслом, а, скорее, толпа, собравшаяся в зале суда, которая ждет, когда судебный пристав провозгласит: «Внимание! Внимание! Внимание! Суд идет!» — она даже не выражает нетерпения, потому что еще не настало время судить не Лукаса Бичема — его они уже осудили, — но Четвертый участок; они пришли сюда не смотреть, как вершат то, что они называют правосудием, или как воздают должную кару, а убедиться, что Четвертый участок не уронит своего престижа белого человека.