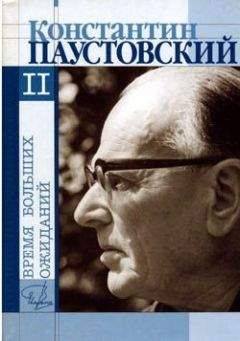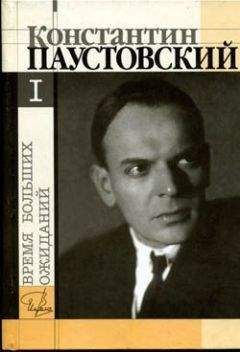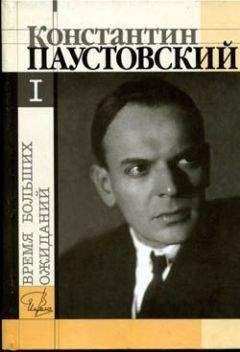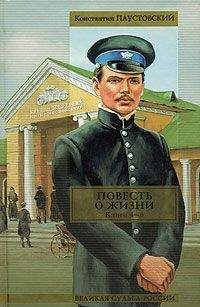Константин Паустовский - Книга скитаний
Я выбирал эти места около высохших колодцев или старых могильников, потерявших сейчас всякое подобие надгробных памятников и ставших грудой камней.
Где-то на окраине Мангышлака, к югу от него, во впадине, ведущей к Кара-Бутазу, я нашел отметку: «Несколько высохших деревьев». Я поставил свой привал около них. Должно быть, это были старые тутовые деревья или колючий саксаул, – дерево, о которое можно ушибиться, как о ломаное железо.
Эти мои отметки были, конечно, игрой. Поэтому я прятал свою карту от чужих глаз. Мне было неловко рассказывать о ней даже таким всепонимающим и ребячливым людям, как Фраерман.
Я отмечал на своей карте не только привалы, но и места, где должен был, попав туда, обязательно вспомнить о ком-нибудь из близких мне людей или о каком-нибудь событии из моей жизни. Вот здесь хорошо бы вспомнить о ночи в Люблине, засыпанной сиренью, а здесь – о том, как мальчишками бродили мы по лесам в Ревнах, – разыскивая в заросших оврагах бормочущие чистые ручьи. И сирень и ручьи должны были обязательно прийти мне на память среди палящей закаспийской пустыни.
Оправдание для этой мальчишеской игры пришло позже, когда я попал на берега Кара-Бугаза и убедился, что, погружаясь в такую странную игру над картой, я был совершенно прав.
Моя любовь к картам принесла мне много знаний, а порой и радостных неожиданностей,
С географическими картами в моей жизни связано несколько более или менее интересных историй. Одну из них я расскажу»
Это история о карте Атлантического океана, о близнецах, моей рассеянности и о провинциальном французском городе в Провансе.
История эта началась давно, в 1957 году, когда я впервые попал в Париж и испытал на берегах Сены около лавок букинистов жестокое огорчение.
Почти у каждого букиниста были выставлены заманчивые карты, слабо подкрашенные акварелью и выгоревшие от старости. Легкий ветерок дул вдоль Сены, колыхал эти карты. Они напоминали затвердевшие флаги, вышедшие из употребления и развешанные для просушки на теплой гранитной набережной.
Я долго рассматривал карты, но не мог купить ни одной. У меня к тому времени иссякли скудные запасы франков. В кармане жидко постукивали ничтожные и невесомые сантимы. Они были такими легкими, будто их делали из швейцарского сыра.
О крупных купюрах – нарядных трескучих ассигнациях из тонкой бумаги с романтическим портретом молодого Бонапарта на Аркольском мосту – осталась только приятная память. Так же, как и о бородатом и вызывающем боязливое почтение Викторе Гюго на пятифранковых бумажках.
В общем; я не мог купить ни одной карты и свою досаду по этому поводу высказал в очерке «Мимолетный Париж», напечатанном вскоре в Москве. Отсюда и начала разматываться нить дальнейшей истории.
В то время в Париже в Сорбонне учился на славянском отделении студент-француз, некто Имар, родом из города Монтобана на юге Франции.
Имар изучал русский язык. Он познакомился с русской девушкой-москвичкой, присланной в Сорбонну для усовершенствования во французском языке, и вскоре они поженились.
Окончив Сорбонну, Имар уехал с молодой женой учительствовать в Монтобан. Он. случайно прочел там в номере журнала «Октябрь» «Мимолетный Париж», проникся состраданием ко мне, купил в Париже на набережной Сены старую карту и прислал мне в подарок в Тарусу.
Карта была вложена в толстую картонную трубку со множеством наклеенных на нее французских марок. Такое обилие заграничных марок вызвало большое оживление среди неизбалованных тарусских филателистов.
В письме, сопровождавшем посылку, Имар сообщал мне, что недавно переехал из Монтобана в маленький городок, где-то между Марселем и Экс-ле-Провансом.
В декабре 1962 года я вторично приехал во Францию и написал из Парижа Имару. В ответ он прислал мне в Париж приглашение обязательно приехать к нему в провансальский городок и по возможности скорее, так как у Имара только что родились близнецы – две девочки – и хорошо было бы вместе отпраздновать это семейное событие.
В письмо была вложена пригласительная карточка, напечатанная, очевидно, в марсельской типографии красивым, широким шрифтом. Семейство Имар просило всех родственников, друзей и добрых знакомых посетить их дом в день, назначенный для празднества в связи с появлением на свет сразу двух новых Имаров.
Я довольно ясно представил себе этот веселый день под безоблачным небом Прованса.
Толпа любопытных, но вежливых школьников – учеников Имара собралась около его дома. Над калиткой развевался трехцветный флаг.
Вдоль тихой улицы стояли разнокалиберные запыленные машины гостей – загорелых и шумных провансальцев, – ценителей знаменитого марсельского блюда «буйя-бесс» (в него кладут все, что водится съедобного в Средиземном море, – креветок, лангустов, омаров, мидий, разную рыбу и водоросли).
Женщины ласково болтали друг с другом. Молодая мать умиляла всех серыми русскими глазами, молодой отец – учитель и спортсмен – смущался, а мэр городка – жилистый старик в старомодной широкополой шляпе, какую носили знаменитый провансальский поэт Мистраль и не менее знаменитый провансальский прозаик Альфонс Додэ, – много шутил по поводу русско-французской дружбы, принявшей такую неожиданную и осязательную форму в их городке.
Накрывали столы. На очагах на французский манер жарили на вертелах мясо. Откупоривали выдержанные вина. И уже напившийся где-то молодой сосед – человек чувствительный и разговорчивый – уверял, что с малых лет влюблен в туманную и холодную Россию и до сих пор вот в такие, изрядно надоевшие ему солнечные дни грустит по облакам. Соседа не смущали взрывы хохота. Да, месье-дамм, он грустит по прекрасным облакам России. Он видел точно такие же облака, когда был недавно на берегу Ламанша.
Правда, этого молодого француза, грустившего по облакам, я встретил в другом месте, в деревне Эгальер, но это не имеет значения.
Но вообще говоря, трудно было представить себе все перипетии этого милого праздника. Я боялся опоздать на пего.
Мы как раз уехали из Парижа в поездку по Провансу, и в конце этой поездки решено было посетить нашего заочного друга Имара. Поэтому путешествие по Провансу было в известной мере предвкушением этой встречи.
Об этом путешествии, пожалуй, стоит сказать несколько слов. Хотя бы потому, что проходило оно в стороне от традиционных путей с их набившей оскомину красотой.
Сначала был средневековый папский Авиньон. Могучие и вместе с тем легкие крепостные стены окружали этот город. Над ним возвышался как бы выросший из диких скал папский дворец. Быстрая Рона струилась за окнами кафе с милым названием «Все идет прекрасно». Там ручные хозяйские канарейки садились на руки подвыпившим шоферам грузовиков-камионов. Шоферы осторожно гладили их черными от автола пальцами по золотым и тугим, скрипучим на ощупь спинкам и ласково дышали на них перегаром вина.
За Авиньоном простирались ясные дали, а за рекой вздымался на холме безлюдный форт Святого Андрея – заповедник крепостной мощи и тишины.
В его могучие ворота могли въехать в ряд только два рыцаря, а меж камней в стенах росли тоненькие, как ниточки, побеги диких озябших ирисов (был декабрь, но к счастью, не было мистраля – бича этих мест).
Мы осторожно вытащили несколько таких побегов, привезли в сырой бумаге в Москву, посадили в вазоны с нашей русской землей, и побеги за две недели превратились в пучки огромных мечевидных изумрудных листьев. Весной их высадят в грунт в Тарусе, и они будут жить в дружбе с русской ромашкой и мятой.
Улицы Авиньона составлены сплошь из средневековых домов с черными балконными решетками и бронзовыми дверными молотками.
На многих домах были прикреплены мемориальные таблички, настолько позеленевшие, что их трудно было прочесть. Но все же наш спутник Виктор Некрасов разобрал на одной табличке неожиданную для нас надпись, что в этом доме жил и умер первый воздухоплаватель, изобретатель воздушного шара Монгольфье. Дом, между прочим, был бедный, тесный и темный.
Потом был Арль. В жизни есть явления, которые больше подходят на сновидения, чем для реальность.
Таким городом для сновидений оказался Арль. Свет дня – к тому же чистый и резкий – делал особенно стереоскопичной, особенно выпуклой картину этого города, его римскую арену, где теперь происходят корриды, его скупые по линиям, пустынные улицы, напоминающие о соседней Испании, сиротливый маленький дом Ван-Гога, уцелевший на краю пустыря, оставшегося после разбитого воздушной бомбардировкой квартала.
В Лувре, в галерее импрессионистов хранятся палитры всех больших художников Франции, в том числе и палитра Ван-Гога. Она как бы составлена из жирных кусков арльской земли. Она светит охрой, суриком, красным вином, осенним цветом виноградного листа, столетней ржавчиной и сырой лиловой тяжестью только что перепаханной земли.