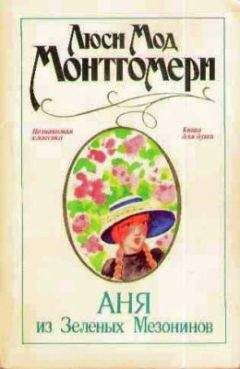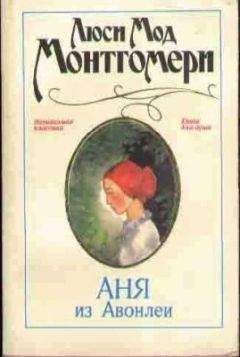Джордж Оруэлл - Дни в Бирме
– Ты зачем здесь? Почему не уехала в свою деревню?
– Я живу возле рынка, у двоюродного брата. Как я могу назад в деревню?
– И что это за посыльные с наглыми письмами? Ты разве не получила сто рупий только неделю назад?
– Как я могу назад? – не отвечая на его вопрос, повторила она так звонко, что он невольно повернулся к ней, увидев горящий из-под сдвинутых бровей упрямый взгляд.
– Почему не можешь?
Тотчас голос ее сорвался в истеричный базарный крик:
– Как мне снова в деревню, на потеху глупым грязным крестьянам? Мне, которая была бо-кадау, женой белого мужчины! Таскать корзины со старыми ведьмами и уродинами, которых не взяли замуж? Чтобы такой стыд, такой позор! Два года я была ваша жена, вы меня любили, наряжали, а потом вдруг ни за что выгнали как собаку. И опять идти в дом отца, когда я нищая, без украшений, без шелковой одежды? А люди будут смеяться: «Вон эта Ма Хла Мэй, которая думала, что умней всех, глядите на нее! Белый мужчина прогнал ее, как все они всегда!». Несчастная я! Вы взяли мою молодость, что мне теперь? Кто на мне женится? Опозоренная я навек, навек!
Флори виновато молчал. Возразить было нечего. Как объяснить, что прежние их отношения в новой его жизни стали грехом и грязью? Пятно на щеке темнело, будто в лицо плеснули чернил. Интуитивно возвращаясь к вопросу о деньгах (что всегда имело успех с Ма Хла Мэй), он решительно сказал:
– Ладно, я буду давать тебе деньги. Ты получишь пятьдесят рупий, которые просила, потом еще. Но до следующего месяца у меня ничего нет.
Это было чистой правдой. Сто рупий ей на прощание и срочное обновление гардероба практически истощили его наличность. К ужасу Флори, Ма Хла Мэй издала пронзительный вопль, белая маска пудры сморщилась, хлынули слезы, и девушка рухнула на колени, уткнувшись лбом в пол.
– Вставай, вставай! – Его всегда просто трясло от подобной демонстрации смирения, этой покорно согнутой шеи и спины, словно ожидающей удара. – Я смотреть не могу, вставай сейчас же!
Она вновь завопила и попыталась обнять его лодыжки. Он отшатнулся.
– Встань, прекрати! Ну что за рев?
Чуть приподняв голову, она закричала: «Вы мне про деньги? Думаете, я за ними опять пришла? Что мне только деньги нужны?». – «А что тебе?», – с безопасного расстояния спросил Флори.
– За что вы меня ненавидите? Какое зло я сделала? Украла ваш портсигар, но вы же не потому сердились, вы хотите жениться на белой женщине, я знаю, и все знают! Но зачем выгонять меня, зачем ненавидеть?
– Нет никакой ненависти, все совсем не так. Вставай, пожалуйста.
Она рыдала как дитя; что ж, ведь она и впрямь была почти ребенком. И сквозь слезы тревожно наблюдала за выражением его лица, ища признаков милости. И внезапно – дичайший поворот! – опрокинулась навзничь, предлагая себя во всех бесстыдных подробностях.
– Поднимись! – заорал он по-английски. – Поднимись, мне противно!
Тогда она червяком, оставляя на пыльном полу темный след, поползла к его ногам и замерла, униженно простершись ниц.
– Хозяин, хозяин, – скулила она, – простите, возьмите Ма Хла Мэй обратно. Я буду вашей рабой, вашей собакой, чем хотите, только не прогоняйте!
Она гладила, целовала его ступни, а он беспомощно стоял, руки в карманах, оцепенело глядя вниз. В комнату вбежала Фло, ткнула нос в складку женского платья, признала запах и неопределенно замахала хвостом. Флори, очнувшись, поднял Ма Хла Мэй на ноги:
– Ну-ка, давай, успокойся, незачем скандалить. Я постараюсь тебе помочь.
Она с новой надеждой закричала: «Вы примете меня? Хозяин, никто не узнает! Белая леди будет думать, что я жена кого-нибудь из слуг. Возьмете меня снова?»
– Не могу. Это невозможно, – отодвигаясь, сказал он.
В тоне прозвучала не оставлявшая сомнений твердость. Раздался страшный крик, и Ма Хла Мэй вновь бухнулась на колени, лбом в пол. Это было ужасно. И ужаснее всего, что униженные, раболепные мольбы не содержали ни капли любви к нему. Душераздирающий плач лишь об утраченном положении праздной, нарядной, помыкающей слугами наложницы. Что-то невыразимо жалкое. Горе без тени благородства вызывает еще более тягостную боль. Он наклонился и опять поднял ее
– Послушай, Ма Хла Мэй, ты никакого зла мне не сделала, это я перед тобой виноват. Но что ж теперь. Иди домой, я буду давать деньги, сможешь завести лавку на базаре. Красивая, с деньгами, наверняка найдешь мужа.
– Несчастная я! – рыдала она. – Я убью себя, утоплюсь! Как мне жить после этого позора?
Он почти ласково придерживал ее, черноволосая головка лежала у него на груди, в ноздри бил запах сандала. Возможно и сейчас, жалобно прижимаясь, она все-таки уповала на верную магическую власть женского тела. Флори с осторожностью отстранил ее:
– Ну-ну, хватит, постой минутку. Я сейчас.
Вытащив из-под кровати сундук, он отсчитал обещанные полсотни рупий. Она молча спрятала их за пазухой. Плач прекратился. Уйдя на минуту в ванную, она вышла умытая, с приглаженными волосами. Хмуро, но без истерики спросила:
– Так вы не примете меня, тхэкин? Нет?
– Нет, прости.
– Тогда я пойду, тхэкин?
– Да-да. Удачи тебе и счастья.
Прислонясь к столбику крыльца, он смотрел, как она уходила. Каждая линия ярко освещенной фигурки была напряжена жестокой обидой. Она сказала правду – он украл ее юность. Его познабливало. Неслышно подошедший Ко Сла деликатно кашлянул.
– Что еще?
– Завтрак остывает, наисвятейший.
– Не хочу я. Выпить принеси, давай джин.
«Неужто мне дано жить новой жизнью?»…
14
Два каноэ гнутыми иглами неслись по ленте притока Иравади – Элизабет и Флори спешили на охоту. Поскольку было невозможно вдвоем ночевать в джунглях, предполагалось пару часов пострелять и к ужину вернуться.
Узкие лодки из цельных стволов скользили, едва колебля воду, тонкой темной полоской прорезавшую заросли сочных болотных гиацинтов с лиловыми цветами. Сквозь нависавшую листву струился зеленоватый свет. Порой раздавались крики попугаев, но зверье не показывалось, лишь метнулась через проток юркнувшая под листья гиацинтов змея.
– Еще долго до деревни? – крикнула Элизабет Флори, который плыл сзади в большом каноэ вместе с Фло, Ко Сла и махавшей веслом морщинистой старой туземкой.
– Далеко еще, бабушка? – спросил Флори.
Вынув сигару изо рта, старуха задумалась, потом ответила: «Как человек может кричать».
– Полмили, – перевел Флори.
Проехали две мили. Спина у Элизабет затекла. В неустойчивой лодке приходилось сидеть на узкой перекладине не шевелясь и поджимать ноги, чтобы не коснуться катывавшихся по дну дохлых креветок. Гребцу Элизабет было лет шестьдесят, но крепкое полуголое тело не утратило молодую стать, пожилое лицо светилось смешливой мягкостью, а густой гриве хвостом свисавших на ухо волос могли бы позавидовать многие бирманки. Элизабет бережно держала лежавшее поперек колен, впервые взятое в руки ружье. Оставить его с прочим снаряжением в лодке Флори она наотрез отказалась. На ней были грубые башмаки, прочная полотняная юбка, мужского фасона блуза и, разумеется, панама, и она знала, что это ей идет. Вообще, несмотря на ломившую спину, испарину и вившихся вокруг крупных пестрых москитов, она была совершенно счастлива.
Русло сузилось, заросли гиацинтов уступили место лепешкам глянцевой шоколадной грязи. Показалась стайка шатких покосившихся хижин на высоких сваях. Голый, по колени в воде мальчонка, который развлекался, управляя виражами привязанного ниткой гудящего зеленого жука, воплем известил о приезде белых, и мигом невесть откуда гурьбой сбежались ребятишки. Гребец, подведя каноэ к служившему причалом толстому, обросшему ракушками бревну, закрепил лодку и помог Элизабет перебраться на берег. Затем выгрузились остальные, в том числе Фло, привычно спрыгнувшая в доходившую ей до шеи жидкую грязь. Навстречу гостям, низко кланяясь и подзатыльниками склоняя головы ребят, вышел тощий старец в малиновом пасо, с красовавшейся возле носа родинкой, из которой вилось три длинных сивых волоса.
– Деревенский староста, – пояснил Флори.
Странной приседающей походкой (результат ревматизма и постоянных выражений почтения властям) староста повел гостей к себе. Европейцев неотступно сопровождала толпа детей и все прибывавшая стая тявкающих собак, чрезвычайно взволнованных появлением оробевшей, жавшейся к хозяйским ногам Фло. Со всех порогов на «английку» простодушно глазели круглые смуглые лица.
Это была одна из прятавшихся в сумраке джунглей деревушек, на протяжении дождливого сезона – крохотных лесных Венеций с каноэ вместо гондол. Дом старосты отличался от прочих хижин несколько большим размером и крышей из рифленого железа. Невыносимо грохотавшая в дождь крыша являлась главной гордостью владельца, хотя эти тщеславные расходы сильно уменьшили его вклады в строительство святилищ и, соответственно, шансы на нирвану. Торопливо взобравшись на крыльцо и пнув в бок спавшего под навесом парнишку, староста, с очередным нижайшим поклоном, пригласил гостей войти внутрь.