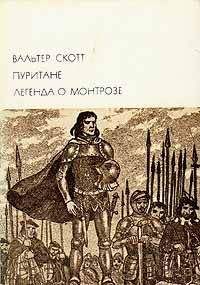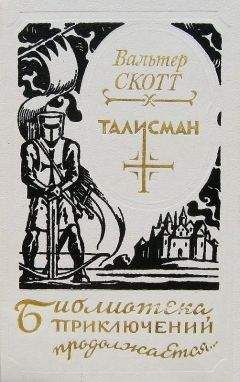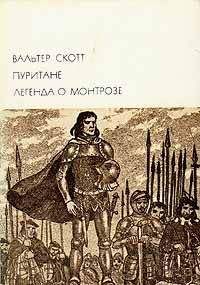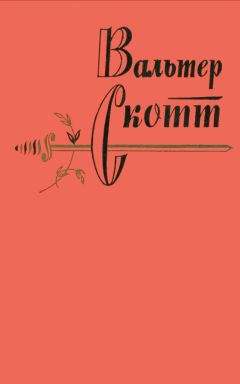Вальтер Скотт - Пуритане. Легенда о Монтрозе
— Боже спаси и помилуй меня! Я разорен! Разорен окончательно и бесповоротно! Он пустил меня по миру! — принялся причитать старый Милнвуд. — Язык этого молодца будет звенеть без умолку, пока его голова не скатится с плеч! Он добьется своего: они отнимут все, что у меня есть, вплоть до серого плаща, прикрывающего мне спину!
— Но вы знали, что Берли, — продолжал Босуэл, обращаясь к Генри и оставляя без внимания горестные восклицания его дяди, — вы знали, что Берли — объявленный вне закона мятежник, а также преступник; вы знали о запрещении иметь дело с подобными личностями, вы знали, что вам, как верноподданному, возбраняется укрывать или снабжать чем бы то ни было этого изобличенного властями государственного преступника, а также общаться с ним, сноситься устно, письменно или через третьих лиц, возбраняется под угрозой строжайшего наказания доставлять ему пищу, питье, кров, убежище или прочие средства к существованию, — обо всем этом вы знали и тем не менее преступили закон.
Генри молча слушал Босуэла.
— Где вы расстались с ним? На большой дороге или, чего доброго, укрыли его в этом доме?
— В этом доме! — вскричал Милнвуд. — Да я бы свернул ему шею, если бы он осмелился привести ко мне в дом государственного преступника.
— А он? Решится ли он утверждать, что не сделал этого? — спросил Босуэл.
— Поскольку мне вменяется это в вину, — ответил Генри, — вы не без удовольствия услышите от меня признание, которым я изобличу себя.
— О мои милнвудские земли! О кровные мои земли! Двести лет вы находились во владении Мортонов! — восклицал его дядюшка. — Где они, эти земли? Они были, да сплыли, они рассыпаются в прах, и пахота, и угодья, и поля, и заливные луга у реки!
— Нет, сэр, — сказал Генри, — вы не пострадаете из-за меня. Я один, — продолжал он, повернувшись к Босуэлу, — я один, без каких-либо соучастников, приютил этого человека на ночь, ибо Берли — старый боевой товарищ отца. Я сделал это не только без ведома дяди, но, больше того, наперекор его прямым приказаниям. Надеюсь, что, если этих слов достаточно для моего осуждения, их достаточно и для доказательства невиновности дяди.
— Молодой человек, — сказал сержант более мягким тоном, — вы производите приятное впечатление, и я вас жалею; да и ваш дядюшка — славный и весьма храбрый старикан, который, я вижу, больше любит гостей, чем себя, так как, потчуя нас отменным вином, сам довольствуется дрянным элем, — расскажите все, что вы знаете относительно этого Берли, что сказал он вам на прощание, куда отправился и где его можно искать; и, черт подери, я закрою глаза на ваше участие в этом деле, насколько позволит мой долг. За голову этого окаянного вига дают тысячу мерков;{66} ах, если б только напасть на его след! Ну, не будем тянуть! Где вы расстались с ним?
— Извините, но я не могу ответить на ваш вопрос, сударь, — сказал Мортон, — те же обстоятельства, которые присудили меня предоставить ему ночлег, несмотря на значительный риск для меня и моих друзей, требуют, чтобы я свято хранил его тайну, в случае если бы он и в самом деле доверился мне.
— Значит, вы не желаете отвечать? — спросил Босуэл.
— Мне нечего вам ответить, — сказал Генри.
— Быть может, я смогу подсказать вам ответ, приложив кусочек зажженного фитиля к вашим пальцам, — проговорил Босуэл.
— Ради всего святого, сударь, — взмолилась старая Элисон, обращаясь к Милнвуду, — дайте им денег — они только этого и хотят! Они замучают мистера Генри, а потом наступит и ваш черед!
Милнвуд в смятении и душевной горести разразился сетованиями и стонами; наконец голосом человека, испускающего последний вздох, он воскликнул:
— Если ф… ф… фунтов двадцать покончат с этим тягостным делом…
— Хозяин, — вкрадчиво сказала Босуэлу Элисон, — даст двадцать фунтов стерлингов…
— Двадцать шотландских фунтов, вы, старая сука! — завопил Милнвуд; скаредность заставила его забыть о пуританской точности в выражениях и об обычной вежливости в обращении к домоправительнице.
— Фунтов стерлингов, — продолжала настаивать Элисон, — если вы согласитесь снисходительно отнестись к проступку нашего мальчика; ведь он упрямец, и вы можете резать его на куски, и все же не вырвете у него ни одного слова; я уверена, что если вы даже припалите ему его пальчики, то и от этого вам большого прибытку не будет!
— Так, так, — сказал Босуэл, колеблясь, — право, не знаю, что делать; большинство моих однополчан взяли бы деньги, а заодно прихватили бы с собой и арестованного, но у меня есть совесть, и если ваш хозяин присоединяется к вашему предложению и готов поручиться за своего племянника; если к тому же весь дом даст присягу, я, право, не знаю…
— Да, да, сударь! Разумеется, сударь! — вскричала миссис Уилсон. — Любую присягу, любую клятву, какую вам будет угодно! — И, повернувшись к хозяину, она зашептала: — Идите, сударь, поторапливайтесь, несите поскорей деньги, или у нас на глазах они сожгут дотла дом.
Побуждаемый жестокой необходимостью, старый Милнвуд окинул горестным взглядом свою советчицу и пошел, как фигурка в голландских часах, выпускать на свободу своих заключенных в темнице ангелов.{67} Между тем сержант Босуэл принялся приводить к присяге остальных обитателей усадьбы Милнвуд, проделывая это, само собой, с почти такой же торжественностью, как это производят сейчас в таможнях его величества.
— Ваше имя, женщина?
— Элисон Уилсон, сударь.
— Вы, Элисон Уилсон, торжественно клянетесь, подтверждаете и заявляете, что считаете противозаконным для верноподданного вступать под предлогом церковной реформы или под каким-либо иным в какие бы то ни было лиги и ковенанты…
В это мгновение церемонию присяги нарушил спор между Кадди и его матерью, которые долго шептались и вдруг стали изъясняться во всеуслышание.
— Помолчите вы, матушка, помолчите! Они не прочь кончить миром. Помолчите же наконец, и они отлично поладят друг с другом.
— Не стану молчать, Кадди, — ответила Моз. — Я подыму свой голос и не буду таить его; я изобличу человека, погрязшего во грехе, даже если он облачен в одежду алого цвета, и мистер Генри будет вырван словом моим из тенет птицелова.
— Ну, понеслась, — сказал Кадди, — пусть удержит ее, кто сможет, я уже вижу, как она трясется за спиною драгуна по дороге в Толбутскую тюрьму; и я уже чувствую, как связаны мои ноги под брюхом у лошади. Горе мне с нею! Ей только приоткрыть рот, а там — дело конченое! Все мы — пропащие люди, и конница и пехота!
— Неужто вы думаете, что сюда можно явиться… — заторопилась Моз; ее высохшая рука тряслась в такт с подбородком, ее морщинистое лицо пылало отвагой религиозного исступления; упоминание о присяге освободило ее от сдержанности, навязанной ей собственным благоразумием и увещаниями Кадди. — Неужто вы думаете, что сюда можно явиться с вашими убивающими душу живую, святотатственными, растлевающими совесть проклятиями, и клятвами, и присягами, и уловками, со своими тенетами, и ловушками, и силками? Но воистину всуе расставлены сети на глазах птицы.
— Так вот оно что, моя милая! — сказал сержант. — Поглядите-ка, вот где, оказывается, всем вигам виг! Старуха обрела и слух и язык, и теперь уже мы глохнем от ее крика. Эй, ты, успокойся! Не забывай, старая дура, с кем говоришь.
— С кем говорю! Увы, милостивые государи, вся скорбная наша страна слишком хорошо знает, кто вы такие. Злобные приверженцы прелатов, гнилые опоры безнадежного и безбожного дела, кровожадные хищные звери, бремя, тяготящее землю…
— Клянусь спасением души! — воскликнул Босуэл, охваченный столь же искренним изумлением, как какой-нибудь дворовый барбос, когда на него наскакивает куропатка, защищающая своих птенцов. — Ей-богу, никогда еще я не слыхивал таких красочных выражений! Не могли бы вы добавить еще что-нибудь в этом роде?
— Добавить еще что-нибудь в этом роде? — подхватила Моз и, откашлявшись, продолжала: — О, я буду ратовать против вас еще и еще. Филистимляне вы и идумеи,{68} леопарды вы и лисицы, ночные волки, что не гложут костей до утра, нечестивые псы, что умышляют на избранных, бешеные коровы и яростные быки из страны, что зовется Васан,{69} коварные змеи, и сродни вы по имени и по природе своей большому красному дракону. (Откровение святого Иоанна, глава двенадцатая, стих третий и четвертый.)
Тут старая женщина остановилась — не потому, разумеется, что ей нечего было добавить, но чтобы перевести дух.
— К черту старую ведьму! — воскликнул один из драгун. — Заткни ей рот кляпом, и прихватим ее с собой в штаб-квартиру.
— Постыдись, Эндрю, — отозвался Босуэл, — ты забываешь, что наша старушка принадлежит к прекрасному полу и всего-навсего дала волю своему язычку. Но погодите, дорогая моя, ни один васанский бык и ни один красный дракон не будет столь терпелив, как я, и не сетуйте, если вас передадут в руки констебля, а он вас усадит в подобающее вам кресло.{70} А пока что я должен препроводить молодого человека к нам в штаб-квартиру. Я не могу доложить моему офицеру, что оставил его в доме, где мне пришлось столкнуться лишь с изменой и фанатизмом.