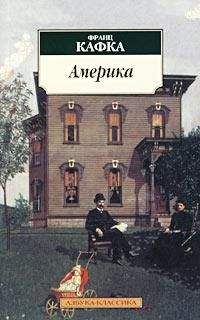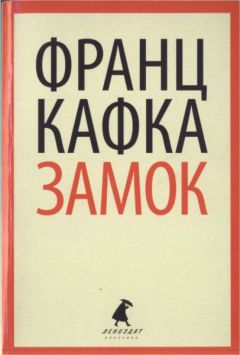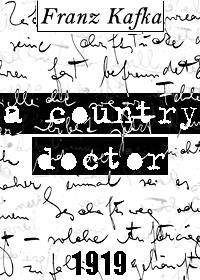Франц Кафка - Замок
— Ах, госпожа хозяйка, — сказал К., — это не только не единственный путь к Кламму, но и не более важный, чем другие. И вы, господин секретарь, решаете, сможет ли то, что я бы здесь сказал, дойти до Кламма или нет?
— Разумеется, — ответил Момус и, гордо опустив глаза, посмотрел вправо и влево, где смотреть было не на что, — иначе какой же я секретарь?
— Ну вот видите, госпожа хозяйка, — повернулся к ней К., — не к Кламму мне нужен путь, а сначала к господину секретарю.
— Я хотела открыть для вас этот путь, — сказала хозяйка, — разве я не предлагала вам утром передать вашу просьбу Кламму? Это было бы сделано через господина секретаря. Но вы это отклонили, и все-таки теперь у вас не остается ничего другого — один только этот путь. Правда, после сегодняшней вашей выходки, после этой попытки устроить засаду на Кламма, — с еще меньшими шансами на успех. Но эта последняя, мельчайшая, исчезающе-малая, собственно, вообще не существующая надежда тем не менее для вас — единственная.
— Как это получается, госпожа хозяйка, — сказал К., — что вначале вы так настойчиво пытались убедить меня не пробиваться к Кламму, а теперь принимаете мою просьбу так всерьез, и меня в случае неудачи моих планов, кажется, считаете в некотором роде пропащим. Если тогда можно было с чистым сердцем отговаривать меня от того, чтобы вообще стремиться к Кламму, то как же можно теперь, вроде бы с таким же чистым сердцем прямо-таки гнать меня вперед по этому пути к Кламму, пусть даже он, как мы договорились, и не ведет к нему?
— Разве я гоню вас вперед? — удивилась хозяйка. — Это называется «гнать вперед», когда я говорю, что ваши попытки безнадежны? Это… поистине уже было бы верхом дерзости, если бы вы захотели подобным образом переложить ответственность с себя на меня. Не присутствие ли господина секретаря вызывает у вас такое желание? Нет, господин землемер, я вас решительно никуда не гоню. Только в одном должна я признаться: в том, что, когда я в первый раз вас увидела, я вас, пожалуй, немного переоценила. Ваша быстрая победа над Фридой испугала меня, я не знала, на что еще вы можете оказаться способны, я хотела предотвратить дальнейшие несчастья и думала, что сумею достичь этого не иначе как попытавшись просьбами и угрозами поколебать вас. За это время я научилась смотреть на все спокойнее. Делайте что хотите. Ваши дела, возможно, оставят глубокие следы там, на снегу во дворе, — но и только.
— Мне не кажется, что противоречие вполне разъяснено, — заметил К., — тем не менее я удовлетворяюсь тем, что на него обратили внимание. Но теперь я попрошу вас, господин секретарь, сказать мне, верно ли это мнение госпожи хозяйки, а именно: что протокол, который вы хотите с моей помощью составить, мог бы иметь своим следствием выдачу мне разрешения предстать перед Кламмом? Если это так, то я готов немедленно ответить на все вопросы. В этом случае я вообще на все готов.
— Нет, — сказал Момус, — такие зависимости не имеют места. Речь идет только о том, чтобы представить Кламмовой деревенской регистратуре точное описание сегодняшнего вечера. Это описание уже готово, вам надлежит заполнить только два-три пробела, порядка ради; какая-либо другая цель здесь не имеет места — и не может быть достигнута.
К. молча смотрел на хозяйку.
— Что вы на меня смотрите, — возмутилась хозяйка, — может быть, я что-нибудь другое сказала? Вот так он всегда, господин секретарь, вот так он всегда. Поймет неверно объяснения, которые ему дают, а потом утверждает, что ему неверно объяснили. Я ему с самого начала, и сегодня, и всегда говорила, что у него нет ни малейших шансов быть принятым Кламмом; ну а раз шансов нет, то, значит, и с помощью этого протокола он их не получит. Что может быть яснее? Дальше я говорю, что этот протокол — единственная действительная официальная связь, которая у него может быть с Кламмом, и это тоже достаточно ясно и не подлежит сомнению. Но раз уж он мне не верит и все время — я не знаю, почему и зачем, — надеется, что сумеет пробиться к Кламму, то тогда, если следовать ходу его мыслей, помочь ему может только единственная действительная официальная связь, которая есть у него с Кламмом, то есть этот протокол. Только это я сказала, и тот, кто утверждает что-то другое, злонамеренно передергивает слова.
— Если это так, госпожа хозяйка, — отвечал К., — тогда я прошу у вас прощения, тогда я вас не так понял, я как раз полагал — ошибочно, как теперь выясняется, — что из тех слов, которые я слышал от вас прежде, следует, что все-таки какая-то самая ничтожная надежда для меня существует.
— Безусловно, — сказала хозяйка, — я именно так и считаю, вы опять передергиваете мои слова, но на этот раз в другую сторону. Какая-то такая надежда для вас, по моему мнению, существует и связана, разумеется, только с этим протоколом. Но положение здесь не такое, чтобы вы могли запросто набрасываться на господина секретаря с вопросом: «Пустят ли меня к Кламму, если я отвечу на эти вопросы?» Когда ребенок так спрашивает, над этим смеются, когда так поступает взрослый, это — оскорбление должностного лица; только тонкостью своего ответа господин секретарь милостиво это сгладил. А та надежда, которую я имею в виду, заключается именно в том, чтобы у вас через протокол был какой-то род связи, может быть, был какой-то род связи с Кламмом. Разве это вам не надежда? Если бы вас спросили, за какие заслуги вам могла бы быть подарена такая надежда, смогли бы вы указать хоть самые малые? Правда, ничего более определенного об этой надежде нельзя сказать, и в особенности господин секретарь по своему служебному положению никогда не сможет сделать на этот счет даже малейшего намека. Для вас, как он сказал, речь идет только об описании сегодняшнего вечера, порядка ради, — большего он не скажет, даже если вы, ссылаясь на мои слова, прямо сейчас его об этом спросите.
— Ну так что, господин секретарь, Кламм будет читать этот протокол? — спросил К.
— Нет, — ответил Момус, — зачем же? Кламм ведь не может читать все протоколы, он и вообще никакие не читает. «Оставьте меня в покое с вашими протоколами!» — говорит он обычно.
— Господин землемер, — жалобно сказала хозяйка, — вы убиваете меня такими вопросами. Разве так уж нужно или хотя бы желательно, чтобы Кламм прочел этот протокол и досконально узнал обо всех ничтожных подробностях вашей жизни? Не лучше ли вам смиреннейше просить, чтобы этот протокол спрятали от Кламма, впрочем, эта просьба была бы так же бессмысленна, как и предыдущая, ибо кто может спрятать что-то от Кламма? — но она хотя бы свидетельствовала о более привлекательном характере. И разве нужно это для того, что вы называете «вашей надеждой»? Разве не заявляли вы сами, что были бы довольны, если бы имели возможность только говорить при Кламме, даже если бы он на вас не смотрел и вас не слушал? И разве не достигаете вы посредством протокола не только этого, но, быть может, и много большего?
— Много большего? — спросил К. — Каким образом?
— Ну что вы вечно, — крикнула хозяйка, — как ребенок, хотите, чтобы вам все подносили на блюдечке! Кто же может ответить на такие вопросы? Протокол пойдет в деревенскую регистратуру Кламма, вы это слышали, больше об этом с определенностью ничего сказать нельзя. Но вам-то понятно теперь все значение протокола, господина секретаря, деревенской регистратуры? Понимаете вы, что это значит — если господин секретарь вас допрашивает? Может быть, даже наверное, он и сам этого не понимает. Он тихо сидит здесь и выполняет свои обязанности — порядка ради, как он сказал. Но вы вдумайтесь в то, что его назначил Кламм, что он работает от имени Кламма, что на все, что он делает, даже если это никогда не доходит до Кламма, заранее имеется согласие Кламма. А разве может иметься согласие Кламма на то, что не проникнуто его духом? Я далека от какого-то желания неуклюже польстить господину секретарю — он бы и сам против этого очень возражал, — но я говорю не о его самостоятельной личности, а о том, что он из себя представляет, когда имеет согласие Кламма, как, например, теперь: тогда он — инструмент, на котором лежит рука Кламма, и горе тому, кто ему не подчиняется.
Угроз хозяйки К. не боялся, от надежд, которыми она пыталась его завлечь, он устал. Кламм был высоко. Однажды хозяйка сравнила Кламма с орлом, и тогда это показалось К. смешным, но теперь уже не казалось; он думал о его высоте, о его неприступном жилище, о его молчании, быть может прерываемом лишь криками, каких К. еще никогда не слыхал, о его устремленном вниз взгляде, который невозможно обнаружить и которому невозможно противиться, о его неразрушимых из той глубины, где был К., кругах, которые он очерчивал вверху по непонятному закону, видимый лишь на мгновение, все это у Кламма и орла было общим. Но протокол к этому явно не имел никакого отношения; как раз в этот момент Момус разломал над протоколом соленый кренделек, который он взял себе к пиву, и засыпал все бумаги на столе солью и тмином.