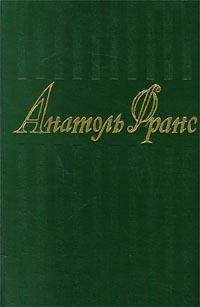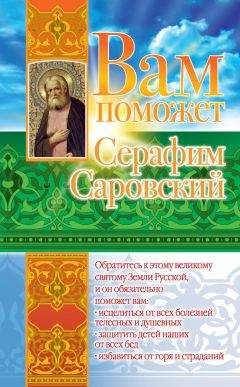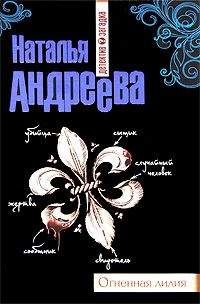Анатоль Франс - 3. Красная лилия. Сад Эпикура. Колодезь святой Клары. Пьер Нозьер. Клио
Тереза не понимала, почему он вдруг замолчал и помрачнел. Но заметив, что он с тревогой посматривает на почтовый ящик, она догадалась. Она нашла, что странно ему ревновать, не имея на то никакого права, но не рассердилась.
Придя на Корсо, они издали увидали мисс Белл и г-жу Марме, выходивших из лавки.
Дешартр властно и умоляюще сказал Терезе:
— Мне надо с вами поговорить. Я должен видеть вас завтра одну; приходите вечером, в шесть часов, на Лунгарно Аччьяоли.
Она ничего не ответила.
XVI
Когда она в своем бледно-коричневом плаще пришла около половины седьмого на Лунгарно Аччьяоли, Дешартр встретил ее смиренным и радостным взглядом, и это ее тронуло. Заходящее солнце обагряло полные воды Арно. Минута прошла в молчании. Когда они двинулись вдоль однообразного ряда дворцов к Старому мосту, она заговорила первая.
— Вот видите, я пришла. Мне показалось, что я должна прийти. Я не чувствую себя невиновной в том, что случилось. Я знаю: я все сделала для того, чтобы вы стали со мной таким, какой вы теперь. Мое поведение внушило вам мысли, которых иначе у вас бы не было.
Он словно не понимал. Она продолжала:
— Я была эгоистка, была неосторожна. Вы мне нравились; ваш ум пленил меня, я уже не могла обойтись без вас. Я сделала, что могла, чтобы привлечь вас, чтобы вас удержать. Я была кокетлива… Мной не руководили ни расчет, ни коварство, но я была кокетлива.
Он покачал головой в знак того, что он никогда этого не замечал,
— Да, так было. Это, однако, не в моем обыкновении. Но с вами я была кокетлива. Я не говорю, что вы пробовали воспользоваться этим, как, впрочем, вы имели право поступить, или что это льстило вам. Я не замечала за вами фатовства. Возможно, что вы ничего и не увидели. Людям незаурядным иногда недостает проницательности. Но я знаю, что вела себя не так, как надо. И я прошу у вас прощения. Вот почему я пришла. Останемтесь друзьями, пока еще не поздно.
С суровой нежностью он сказал, что любит ее. Первые часы этой любви были легкими и чудесными. Ему хотелось одного — видеть ее снова и снова. Но вскоре она возмутила его покой, вывела его из равновесия, истерзала его. Болезнь вспыхнула внезапно и бурно в тот день, на террасе во Фьезоле. А теперь ему недостает мужества страдать молча. Он взывает к ней. Он пришел, не имея никаких твердых намерений. Если он открыл ей свою страсть, то сделал это не по своей воле, а помимо желания, покорный неодолимой потребности рассказывать ей о ней самой, ибо она одна в целом мире существует для него. Его жизнь отныне не в нем, а в ней. Пусть же она знает, что его любовь — не кроткая и вялая нежность, а испепеляющее жестокое чувство. Увы! он обладает ясным и отчетливым воображением. Он знает, чего хочет, беспрестанно видит предмет своих желаний, и это — пытка.
И еще ему кажется, что, соединившись, они узнают счастье, ради которого только и стоит жить. Их жизнь стала бы прекрасным, скрытым от всех творением искусства. Они думали бы, понимали, чувствовали бы вместе. То был бы дивный мир переживаний и мыслей.
— Мы бы превратили жизнь в волшебный сад.
Она притворилась, будто понимает его слова как невинную мечту.
— Вы же знаете, как привлекает меня ваш ум. Видеть, слышать вас стало для меня потребностью. Я слишком ясно дала это заметить. Будьте же уверены в моей дружбе и больше не терзайте себя.
Она протянула ему руку. Он не взял ее и с резкостью ответил:
— Я не хочу вашей дружбы. Не хочу. Или вы всецело должны быть моей, или мне больше никогда вас не видеть. Вы это знаете. Зачем вы протягиваете мне руку и говорите эти жалкие слова? Хотели вы того иль не хотели, вы внушили мне безумное желание, смертельную страсть. Вы стали моей болезнью, моей мукой, моей пыткой. И вы просите меня стать вашим другом! Вот теперь-то вы и правда кокетливы и жестоки. Если вы не можете меня любить, дайте мне уйти; я уеду куда глаза глядят, чтобы забыть вас, чтобы вас ненавидеть. Ведь в глубине души я чувствую ненависть к вам и гнев против вас. О, я вас люблю, я вас люблю!
Она поверила тому, что он говорил, испугалась, что он может уйти, и ей стало страшно, — как скучна и печальна будет жизнь без него! Она сказала:
— Я нашла вас в жизни. Я не хочу вас терять. Не хочу.
Он что-то бормотал робко и страстно, слова застревали у него в горле. С далеких гор спускались сумерки, и последние отсветы солнца гасли на востоке, на холме Сан-Миньято. Она заговорила снова.
— Если бы вы знали мою жизнь, если бы вы видели, какой пустой была она до вас, вы бы поняли, что вы значите для меня, и не думали бы о том, чтобы меня покинуть.
Но самое спокойствие ее голоса и ровность ее шага раздражали его. Он уже не говорил, он кричал ей о своей муке, о жгучем влечении к ней, о пытке неотступных мыслей, о том, как он всюду, во всякий час, и ночью и днем, видит ее, взывает к ней, простирает к ней руки. Теперь он узнал божественный недуг любви.
— Тонкость вашей мысли, ваше изящное благородство, вашу умную гордость — все это я вдыхаю с ароматом вашего тела. Когда вы говорите, мне кажется, будто душа слетает с ваших уст, и я терзаюсь, что не могу прижаться к ним губами. Ваша душа для меня — это благоухание вашей красоты. Во мне еще сохранился инстинкт первобытного человека, и вы пробудили его. Я чувствую, что люблю вас с простотой дикаря.
Она кротко взглянула на него и ничего не ответила. В эту минуту среди сгустившегося мрака возникли огоньки; они наплывали издалека, послышался зловещий напев. И вскоре, словно призраки, гонимые ветром, показались черные монахи. Впереди двигалось распятие. Это братья ордена Милосердия, скрыв под капюшонами лица, при свете факелов и с пением псалмов несли на кладбище покойника. Погребение, по итальянскому обычаю, происходило ночью, и процессия двигалась быстро. Кресты, гроб, хоругви мчались по безлюдной набережной. Жак и Тереза стали у самой стены, чтобы пропустить этот погребальный смерч — священников, юных певчих, людей со скрытыми лицами и вскачь несущуюся вместе с ними непрошенную гостью — Смерть, которой не принято кланяться в этой стране радостной неги.
Черный вихрь пролетел. Плакали женщины, спеша за гробом, уносимым призраками в грубых подкованных башмаках.
Тереза вздохнула:
— Какой смысл в том, что мы сами себя мучаем на этой земле?
Он как будто не слышал ее и продолжал в более спокойном тоне:
— До того, как я вас узнал, я не был несчастлив. Я любил жизнь. Воображение и любопытство привязывали меня к ней. Меня привлекали формы и дух этих форм, пленяли и тешили зримые образы. Мне дана была радость — созерцать и мечтать. Я всем наслаждался и ни от чего не зависел. Желания разнообразные, но поверхностные увлекали меня, не утомляя. Меня все занимало, и я ничего не хотел: страдаешь только тогда, когда страстно хочешь чего-либо. Теперь я это узнал. А тогда у меня не было мучительных желаний. Сам того не сознавая, я был счастлив. О! это была такая малость, ровно столько счастья, сколько надо для того, чтобы жить. Теперь у меня нет и этого. Все прежние удовольствия, интерес к образам искусства и жизни, живительную радость собственными руками воплощать свою мечту — все я утратил из-за вас и даже не жалею об этом. Я не хотел бы вернуть свою свободу, свое былое спокойствие. Мне кажется, что до вас я не жил. А теперь, когда я чувствую, что живу, я не могу жить ни вдали от вас, ни подле вас. Я более жалок, чем те нищие, которых мы видели по дороге к монастырю на Эме. Они могут дышать воздухом. А я дышу только вами, но вы — не моя. И все же я радуюсь, что встретил вас. В моей жизни только это имеет значение. Я думал, что ненавижу вас. Я ошибался. Я вас обожаю и благословляю вас за боль, которую вы мне причинили. Я люблю все, что исходит от вас.
Они подходили к черным деревьям, возвышавшимся у моста Сан-Николо. По ту сторону Арно тянулись пустыри, еще более унылые в ночной темноте. Видя, что он стал спокойнее и полон теперь какой-то тихой грусти, Тереза решила, что его любовь, плод воображения, улетучивается в словах и что желания его сменились мечтами. Она не ждала, что он смирится так скоро. Она была почти разочарована, избежав пугавшей ее опасности.
Она протянула ему руку — теперь смелее, чем в первый раз.
— Будем же друзьями. Уже поздно. Пора домой, проводите меня до экипажа — я оставила его на Пьяцца делла Синьория. Я буду для вас тем, чем была, — самым верным другом. Я на вас не сержусь.
Но он повлек ее дальше в безлюдье полей, расстилавшихся вдоль берегов, все более и более пустынных.
— Нет, я не дам вам уйти, не сказав того, что хотел сказать. Но я разучился говорить, я не нахожу слов. Я вас люблю, вы должны быть моей. Я хочу знать, что вы моя. Клянусь вам, я не переживу ночи в этих муках сомнения.
Он схватил ее, сжал в объятиях и, прильнув лицом к ее лицу, ловя сквозь сумрак вуалетки свет ее глаз, сказал: