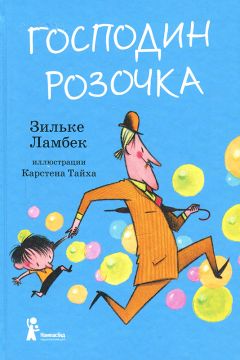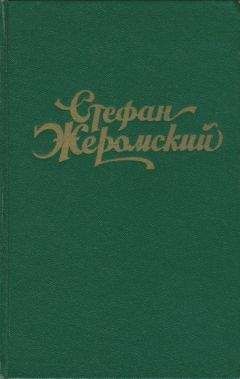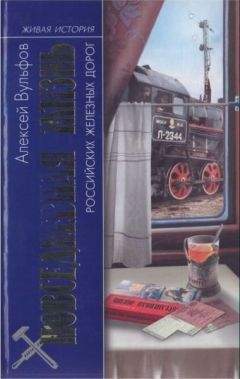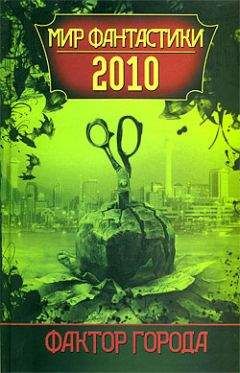Стефан Жеромский - Луч
— Мои. Два брата и сестра.
— А родители у вас есть, пан мастер?
— Нету. Мать давно померла, а отец этой весной.
— А отец что, тоже был резчиком?
— Э, где там, ваша милость, — вмешался старик. — Отец его, покойник, простой был человек. Прямо сказать, батрак деревенский. Жил тут у нас, еще когда я сам работал. Выпивал, что и говорить, но хороший был человек. Спал вон там в углу, с ребятишками вместе, когда жена его умерла. И здоровый мужик был, только напала на него вдруг какая‑то хворь… Велели ему в усадьбе кобылу ободрать — за всякую работу брался, — ну, и заразился паршой, что ли. Говорили, будто сап это, только не знаю, разве может такая болезнь пристать к человеку?
— Я слышал об этом… — сказал Радусский, глядя на маленького резчика затуманившимися глазами. — Значит, ты сын этого человека? Ты его сын? И эта девочка, и мальчик, и этот вон крошка тоже его дети? Так вот, значит, как…
— Да. Он его сын. Раньше, когда все они тут жили и работы было много, Шимек, бывало, все смотрел, как резец надо держать, любопытно было ему. Пригляделся это он и еще маленьким стал мне камни отесывать. А как подрос, я его к Фиолковскому определил, приятелю в Сапах. У него там большая мастерская. Не то, что моя… Что и говорить, прекрасное заведение. Взял он его. И не зря. Ты, Шимек, верно, там года четыре пробыл?
— Четыре года и семь недель.
— Ну, вот! Подучился малый. Может, и подмастерьем у Фиолковского стал бы, да где уж там… Старик, отец его, совсем расхворался, что мне было делать с этой мелюзгой? Выгнать — жаль… Кормил это я их, кормил, да и говорю: я уж вовсе слепну, день и ночь над камнем сидя. Пускай же хоть Шимек идет ко мне в помощники. Накатали мы письмо, марку наклеили за семь копеек, бросили письмо в ящик, готово дело. Явился наш Шимек. А когда Петр умер, стали мы вдвоем работать, только тут на меня свалилась беда. Правым глазом совсем не вижу, да и левым еле — еле. Буквы еще покрасивей ему нарисую, да мастерская на мое вроде имя, а работа вся на нем…
— И хорошо вы зарабатываете?
— Да нет, ваша милость, какой там памятник можно сделать в Лжавце? — ответил старик. — Мрамор тебе нужен, тащи его из Сап. А на чем и как его тащить? Только и работаем, что на деревенских, на мещан, на бедноту всякую. Вытешешь крест из песчаника, вот и весь памятник. Заказала тут большую надгробную плиту сестра каноника из Колейн, хочет на могилу мужа поставить, да не смог я закончить. Сейчас он вот работает, но не скоро справится, хоть и видал такую работу и брался уж за нее.
— Ас мелюзгой что думаешь делать? — спросил пан Ян у молодого резчика. — Мальчишку своему ремеслу, что ли, обучишь?
— Кто его знает, что с ним делать?.. — ответил Шимек, мельком взглянув на брата. — Озорник он! Сам не знаю, как с ним быть… Непутевый, удержу ему никакого нет. Только в дверь шмыгнет, и след его простыл, ищи его на другом конце города.
— А сестра? Я вижу, она вам помогает.
— Известно, помогает… Хоть похлебку на огонь поставит, и на том спасибо.
— Отдал бы ты ее в прислуги?
— А кто ее возьмет, ваша милость, такую оборванку?
— Я бы взял, — сказал Радусский. — Мне как раз нужна… горничная. У меня дочка ее лет, вот бы они вместе… то есть она бы смотрела за ней.
Молодой резчик оперся дрожащей рукой на плиту, откинул со лба волосы и смотрел то на Радусского, то на Матеуша, который перестал прикладывать примочки к глазу и прислушивался с разинутым ртом.
— Какая из такой пигалицы прислуга, ваша милость, — тихо проговорил мальчик. — Она тут бегает к нашей тетке, смотрит, что как готовить, да только по — господски ей не потрафить…
— Готовить ей сразу и не придется. Посмотрим. Хочешь пойти со мной, маленькая? — обратился он к девочке, которая теребила фартук.
Прежде чем она осмелилась посмотреть на своего будущего хозяина, старый резчик заговорил заискивающим тоном:
— Вы, вельможный пан, тут живете, в Лжавце?
— Да, на углу Фронтовой и рынка.
— Ануля, целуй у пана руку и собирайся, — воскликнул старик. — Нечего раздумывать! Беги к тетке, пускай свяжет в узелок твои вещи и того… Целуй вельможному пану руку!
Девочка хотела исполнить приказание, но Радусский повернул ее к двери и отослал к тетке. Когда она ушла, пан Ян условился с молодым резчиком насчет платы. Мальчик был задумчив, а когда благодарил Радусского, пристально смотрел на незнакомого пришельца. И пан Ян не мог налюбоваться на маленького работника. Он видел, как постепенно прояснялся его хмурый детский лоб, словно озаряясь светом изнутри, как потеплели его глаза и губы сложились в милую улыбку — и тоже улыбнулся в ответ. Перед тем он думал только о том, как помочь этому мальчику, не прибегая к милостыне, которая была противна ему, но в эту минуту слились воедино неясные обрывки смутных мыслей и новая, зрелая мысль уже кипела в его уме, как кипит глубокий живой ключ из просочившихся по капле подземных вод.
«Это нас согрел с мальчиком тот самый луч, о котором говорил старый букинист. Это он — главный рычаг истинной цивилизации. Все прочее «недостойно внимания, недостойно внимания». Глупец Кощицкий! Он находит, что Лясконец погиб зря, ни за понюшку табаку…»
Пока он размышлял об этом, переполненный радостью, которую библия называет «великой», дверь отворилась, и в комнату пугливо заглянула тщедушная девушка в красном старом платке на голове, в грязной рубашке и засаленной корсетке. Радусский бросил на нее взгляд и подумал: «Смотри‑ка, еще одна старая знакомая. Рубашка на ней со времени праздников порядком загрязнилась».
— Это твоя тетка? — спросил он вслух.
— Тетка, мамкина сестра, — ответил Шимек.
— Она служит у пани Вонтрацкой?
— А что вы, ваша милость, знаете ее? — спросил старик.
— Да, немножко… Ну, Ануля, узелок готов?
— Готов, ваша милость… — пролепетала та тихонько.
— Так в путь! Будьте здоровы, на досуге заходите посмотреть, как живется в людях вашей Ануле. Насчет памятника я еще к вам загляну… Договоримся с вами, милые мои мастерочки, и какую плиту выбрать и что написать… что написать…
Он вышел и, посвистывая, зашагал по улицам, сопутствуемый босоногой и перепуганной девчушкой.
С водворением Анули жизнь пана Яна несколько изменилась. Приступы меланхолии от усиленных умственных и физических занятий день ото дня ослабевали. Больше всего его занимала сейчас проблема начального воспитания. В молодые годы он обнаруживал теоретический интерес к педагогике, изучая ее наряду с такими науками, как политическая экономия или естествознание. Он считал этот предмет необходимым для общего развития, но знакомился с ним довольно бегло, в самых общих чертах. Со временем все позабылось, как необязательная хронологическая дата из римской истории. Теперь, когда тоска безраздельно владела его сердцем и умом и случай свел у его домашнего очага двух девочек — однолеток, вопросы воспитания вначале его мучили, заставляли задумываться, а в конце концов захватили целиком. Он изучал предмет уже не из теоретического интереса, а по глубочайшему внутреннему побуждению. Радусский взялся за дело воспитания обеих сироток с таким жаром, с каким человек, предупрежденный внимательным врачом, борется с болезнью. Усвоенные некогда сведения о постановке начального воспитания в Англии, Франции, Швеции, Швейцарии пригодились ему не более, чем простейшие медицинские навыки могут пригодиться путешественнику, повстречавшему в безлюдной степи израненного человека. Он наново взялся за книги, на этот раз серьезно вникая в с)ть дела.
Его главным помощником была пани Гжибович. На ее‑то долю и выпало непосредственное воспитание обеих девочек. Ежедневно, даже в редакционные часы, велись споры о том, какую систему следует предпочесть и применить. Пани Гжибович была противницей всяких систем вообще и предлагала вырастить из девочек просто «хороших женщин»; ее муж ратовал за «свободомыслие»; Радусский старался втолковать обоим свою главную мысль, которой они сразу не оценили. Ему хотелось воспитать девочек так, чтобы они не только могли самостоятельно зарабатывать себе на жизнь, но и обладали сильным характером. Он мечтал о еще не существующей системе, которая развивала бы свободный дух, не калеча, не раня и не сковывая его. Элементарные знания следовало, по его мнению, преподавать, руководствуясь практикой швейцарских начальных школ, то есть исподволь, без нажима и принуждения. Однако наряду с этим обе воспитанницы должны были приучаться к ежедневному труду; вместе с прислугой они должны были убирать комнаты, работать в палисаднике и на кухне, ходить с пани Гжибович в лавки и покупать под ее наблюдением хлеб, масло, молоко, мясо, относить покупки домой и т. д. В определенные часы дня девочки должны были нарезать и заклеивать бандероли для отправки газет и опускать письма в почтовый ящик. Горничная не имела права оказывать им какие бы то ни было услуги. Они сами постилали себе постели, чистили обувь и платьица, носили кувшины с водой, подметали пол, лестницу и дворик.