Шолом Алейхем - Менахем-Мендл
Пошел я в синагогу и попал как раз к вечерней молитве. Когда помолились, подходит ко мне служка и спрашивает:
— Годовщина?
— Годовщина! — отвечаю.
— Откуда будете?
— С белого света, — говорю.
— Как ваше имя?
— Менахем-Мендл.
— Привет вам! — говорит он и здоровается со мной, а за ним и все молящиеся.
Окружили меня со всех сторон и начали выспрашивать: кто я такой, и откуда, и чем занимаюсь?
— Я — агент! — говорю.
— По каким делам? — спрашивают. — По машинам?
— Нет, — отвечаю. — Я агент-инквизитор от «Эквитебеля».
— Это что еще за напасть? — спрашивают они.
— Я обеспечиваю людей после смерти.
И объясняю им, что это значит и как штрафуют людей от смерти. А те стоят с раскрытыми ртами, как если бы им рассказывали, что на небе — ярмарка.
Среди них я заметил двоих людишек: один из них высокий, тощий, весь какой-то изогнутый, и нос у него тоже изогнутый и лоснящийся. И манера у этого человечка во время разговора выдергивать по одному волосы из бородки. Второй невысокого роста, коренастный, черный, как цыган, с одним глазом — вороватым и все время глядящим куда-то в сторону. И как бы серьезно он ни говорил, все кажется, что он ухмыляется. Эти двое, видимо, хорошо раскумекали, что значит штрафовать людей от смерти: они как-то странно все время переглядывались и пробормотали один другому: «Будет дело!»
Я сразу же сообразил, что этих двух нельзя равнять с остальными: они понимают дело и с ними можно столковаться.
И действительно, как только я вышел из синагоги, они пошли следом и обратились ко мне:
— Куда вы так спешите, реб Менахем-Мендл? Погодите минуточку, мы хотим у вас кое-что спросить. Вы собираетесь у нас, в этой дыре, дело делать?
— А почему бы и нет? — спрашиваю.
— С нашими евреями? — говорит долговязый с изогнутым носом.
А тот, с глазком, подхватил:
— С евреями хорошо кугель кушать!
— Что же прикажете делать? — говорю я.
— Дело надо делать с помещиками!
— Дай им бог здоровья! — подхватил одноглазый.
Идем мы таким образом и разговариваем. А когда говорят, — можно и договориться. Оказывается, что у них сокровище — барин, молдаванин, богатый хозяин, который дает им подзаработать. Вот они и думают, что его можно было бы заштрафовать на кругленькую сумму…
— Ну что ж! С удовольствием! А ну-ка, возьмитесь за это дело, и давайте поработаем вместе… Я не жадный…
И решено было, что завтра утром в синагоге они передадут мне ответ их барина молдаванина. Они только просили все сохранить в тайне, не проговориться в заезжем доме, что мы виделись и затеяли вместе дело.
Как только рассвело, я поторопился в синагогу. Помолился, а моих типов нет. Подождал, покуда помолилась новая партия прихожан, — нету моих людей. Почему я, дурень, не спросил, как их звать, где они живут? Подойти к служке и спросить, — боюсь, ведь я же дал слово все сохранить в тайне. И только, когда все помолились, они пожаловали. Увидал я их, и сердце у меня екнуло от радости. Однако подойти к ним и спросить, как обстоит дело, — воздержался. Это неудобно. Помолившись наспех, они пошли. Я за ними.
— Ну? — спрашиваю.
А они мне:
— Помалкивайте. Не говорите на улице. Вы не знаете нашего города, сгореть бы ему! Вы идите лучше следом за нами к нам домой. Там сделаем дело, а кстати, и закусим…
Так говорит долговязый, что с изогнутым носом, делает какой-то знак одноглазому, и тот исчезает. А мы вдвоем идем какими-то мрачными закоулками, он впереди, а я за ним. Наконец господь помог, и мы благополучно прибыли.
Вошли мы в темную, закопченную избушку со множеством мух на стенах и на потолке, с размалеванным «востоком»,[55] с красной скатертью на столе, с лампой, обвешанной поблекшими бумажными цветами… Возле печи стояла маленькая женщина-замухрышка с бледным перепуганным лицом. Женщина испуганно поглядела на мужа, а тот, проходя мимо, бросил: «Кушать!» — и в одно мгновение на столе появилась другая скатерть, булка, водка и закуска. Прошло немного времени, и вошел одноглазый, а следом за ним вкатился человечище пудов двенадцать весом, с большим синим носом, с огромными волосатыми ручищами и парой странных ног, сверху довольно толстых, а книзу все тоньше и тоньше. Нелегко им, должно быть, таскать такую тушу.
Это и был тот самый барин молдаванин. Увидав на столе бутылку водки, он жирным голосом выдавил из жирного брюха:
— Оце добре дiло!
Выпив по рюмочке (барин выпил две), оба типа заговорили с ним насчет пшеницы и ржи, а между делом одноглазый шепнул мне на ухо:
— Набит деньгами, как мешок! У него чуть ли не тысяча четвертей хлеба, не считая овса… Вы не смотрите, что он так одет: скряга!
А второй, долговязый, все время советует барину хлеб не продавать, потому что пшеница будет в цене. Лучше весь хлеб приберечь до зимы.
— Оце добре дiло! — повторяет барин, раз за разом опрокидывает рюмку и, закусывая, будто с голодухи, отдувается губами и носом. После еды долговязый мне говорит:
— Теперь можете потолковать с барином о вашем деле…
Сели мы с ним в уголок, и я разговорился, — сам не знаю, откуда что взялось! Я объяснил ему, как важно каждому человеку штрафоваться, будь он хотя бы богат, как Крез. «Наоборот, чем богаче человек, тем, — говорю я, — нужнее, чтобы он заштрафовался, потому что богатому, когда он на старости лет теряет свои капиталы, в тысячу раз хуже, чем бедняку. Бедняк, — говорю я, — свыкся со своей нищетой, а богатый, если останется, упаcи бог, без денег, хуже, чем покойник! Як написано у нас, — говорю я ему, — „Они хошув кимес“, — значит: бедный хуже, як мертвый. А потому, — говорю я, — ваше благородье, заштрафируйте соби от смерти, — через сто двадцать лет, — на десять тысяч!!!»
— Оце добре дiло! — отвечает барин и отдувается, как кузнечный мех.
Чувствую, что желание говорить разгорелось во мне со страшной силой, хочу продолжать, но долговязый обращается ко мне:
— Довольно звонить! Доставайте бумагу, нарисуйте что требуется…
Одноглазый подает мне чернила и перо, и я проделываю все, что полагается. А когда дошло до подписи, мой барин, бедняга, здорово попотел, пока изобразил свое имя. Потом мы пошли с ним к доктору, чтобы тот его осмотрел, я получил задаток, выдал квитанцию и — дело сделано.
Пришел под вечер в заезжий дом в хорошем настроении, заказал ужин. Хозяин спрашивает:
— Что у вас хорошего?
— Ничего особенного.
— Можно вас поздравить?
— А с чем? — спрашиваю я.
— С дельцем, которое вы тут обделали…
— С каким дельцем? — прикидываюсь я дурачком.
— С барином! — говорит он.
— С каким барином?
— С толстым барином…
— А откуда, — спрашиваю, — вы знаете, что я сделал дело с барином?
— Это такой же барин, — говорит он, — как я жена раввина…
— А кто же он такой?
— Свинья рогатая! — говорит хозяин и смеется мне прямо в лицо.
Тогда я подсел к нему и стал спрашивать, умолять, чтобы он мне сказал, что значит «свинья рогатая», и откуда он знает, где я был и что я делал?
Словом, он, по-видимому, понял, что я тут ни сном, ни духом не виноват. Пожалел он меня, заперся со мной в отдельной комнате и стал рассказывать о моих компаньонах такие вещи, что у меня волосы дыбом встали. Оказывается, что эти двое — просто жулики, бандиты, каких свет не видал.
— Они, — говорит он, — за свою жизнь столько уголовных дел совершили, что если бы их поймали, то отправили бы невесть куда… Их счастье, что каждый раз они выставляют вместо себя кого-нибудь третьего, а сами остаются в стороне… Этот барин, которого они вам представили, как богатого молдаванина, всего-навсего простой «лапацон», пьянчуга, каких мало, а тот, кого вы заштрафовали, — либо готовится богу душу отдать, либо давно уже у господа бога в раю… Понимаете, чем это пахнет?
У меня душа в пятки ушла! Мне только того и недоставало, как попасть надолго в тюрьму! Я не стал откладывать, тут же побежал на станцию, чтобы удрать, куда глаза глядят. Я даже видеться не пожелал больше с моими типами. Пусть они провалятся сквозь землю со своим барином, со всей Бессарабией и со всем этим штрафованием людей от смерти, которое может привести к несчастью… Дай бог лучших дел! Прибыть бы мне благополучно на место. Но так как я собираюсь в дальний путь, то пишу тебе кратко. Даст бог, из Гамбурга напишу обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи. Привет милым деткам. Дай им бог здоровья и сил и дай бог свидеться при более веселых обстоятельствах! Привет тестю, и теще, и каждому в отдельности.
Твой супруг Менахем-Мендл.
Главное забыл! Я совсем забыл написать тебе, куда я еду. Дорогая моя жена, я еду в Америку. Не один, — целая компания едет. То есть едем мы, собственно, в Гамбург, а уж оттуда в Америку. Почему в Америку? Потому что в Америке, говорят, неплохо живется. Золото, говорят, там на улицах валяется. Деньги там считают на доллары, а люди там в большом почете: червонец — человек! А уж о евреях и говорить не приходится, — они там в ступе на самом верху… Все меня обнадеживают, что в Америке я, с божьей помощью, буду процветать! Весь мир едет в Америку, потому что здесь делать нечего. Совсем нечего! Кончились все дела. А уж если все едут, почему же мне не ехать? Чем я рискую? Но только ты не огорчайся, дорогая моя, и не подумай обо мне дурного! Поверь моему слову, что я, упаси бог, не забуду ни тебя, ни наших деток, дай им бог здоровья! Я буду трудиться день и ночь, никакой работы не испугаюсь, и как только господь мне поможет и мне повезет, а мне обязательно повезет, я в этом уверен так же, как и в том, что сейчас день на белом свете, — я пришлю шифскарты[56] для тебя и для детей, заберу вас сюда, и будешь ты у меня жить в почете, как графиня, все самое лучшее доставлю тебе, пылинке не дам на тебя упасть. Да и пора уже, право, чтобы и ты пожила в свое удовольствие! Только не горевать и не принимать близко к сердцу, — ибо велик наш бог!..
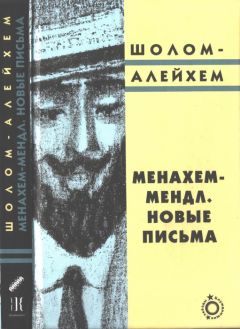
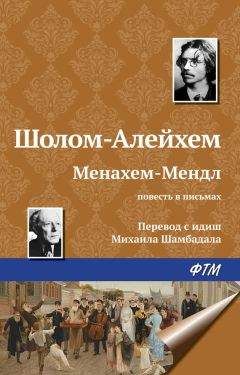
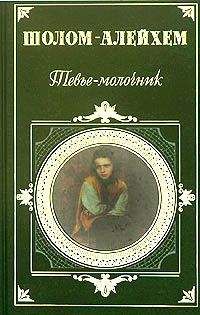

![Рон Хаббард - Поле битвы — Земля [Поле боя — Земля]](/uploads/posts/books/101739/101739.jpg)