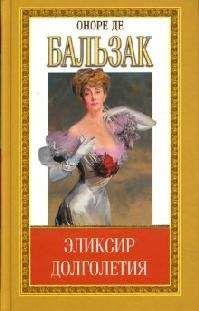Оноре Бальзак - Музей древностей
«Боже, ты должен спасти род д'Эгриньонов! — воскликнул про себя Шенель, медленным шагом возвращаясь домой. — Теперь все сведется к юридическому поединку. Мы имеем дело с людьми, действиями которых руководят страсти и корыстные интересы, и мы можем всего от них добиться. Этот дю Круазье воспользовался отсутствием королевского прокурора, который нам предан, но находится сейчас в Париже, на сессии палаты... Все же непонятно, каким образом они забрали в руки его старшего помощника и тот, не посоветовавшись с начальством, передал жалобу в суд? Завтра утром нужно будет непременно проникнуть в эту тайну, нащупать почву, и, если у меня окажутся в руках все нити заговора, быть может, придется опять съездить в Париж и там, через госпожу де Мофриньез, прибегнуть к помощи высоких особ».
Таковы были мысли бедного старика, поседевшего в юридических битвах; и он правильно оценивал положение. Наконец нотариус лег, изнемогая от усталости и пережитых треволнений. Однако, перед тем как заснуть, он перебрал в уме всех членов суда, стараясь проникнуть испытующим взором в тайны их честолюбивых помыслов и выяснить, каким путем можно на них воздействовать, каковы его шансы в этой борьбе. Подведя краткий итог тщательному разбору, которому Шенель подверг совесть этих людей, мы дадим читателю некоторое представление о судебных нравах в провинции.
Все судьи и прокуроры, вынужденные начать свою карьеру и осуществлять свои честолюбивые мечтания в провинциальной глуши, мечтают о Париже, жаждут блистать на этой широкой арене, где бывают громкие политические процессы, где суд тесно связан с животрепещущими общественными интересами. Но в этот юридический рай проникают лишь немногие избранники, а девять десятых претендентов рано или поздно бывают вынуждены навсегда обосноваться в провинции. Поэтому в каждом провинциальном трибунале, в каждом суде существуют две резко очерченные категории чиновников: одна — это отчаявшиеся честолюбцы, которые довольствуются почтением, с каким обитатели провинции обычно относятся к представителям правосудия, или те, кто окончательно погрузился в ее тихую, сонную жизнь; другая категория — это энергичные, а иногда и действительно одаренные молодые люди, честолюбие которых не могут охладить никакие разочарования, а жажда выдвинуться постоянно разжигает его в этих служителях Фемиды и доводит их до какого-то неистовства. В те времена роялизм вдохновлял молодых ревнителей правосудия на борьбу с врагами Бурбонов. Любой помощник прокурора мечтал тогда о грозных речах, жаждал крупных политических процессов, в которых мог бы показать свое усердие, привлечь внимание начальства и выдвинуться. Кто из судейских чиновников не завидовал суду, в чьем округе бывал раскрыт бонапартистский заговор? Кто не жаждал выследить какого-нибудь Карона[32] или Бертона[33] или обнаружить подготовку к вооруженному восстанию? Эти пылкие честолюбцы, чьи надежды поддерживались упорной борьбой партий, ссылались на благо государства и необходимость укрепить во Франции монархический строй; они были необычайно дальновидны, проницательны, предусмотрительны; они неукоснительно исполняли свои полицейские обязанности, шпионили за населением и толкали его на путь покорности, с которого оно не смело сойти. Вера в монархию придавала тогдашней юстиции черты фанатизма; притязая на исправление ошибок старинных парламентов[34], новейшие суды действовали заодно с церковью, — быть может, даже слишком открыто. В эту эпоху юстиция показала себя скорее усердной, чем искусной, она меньше грешила макиавеллизмом, чем откровенностью взглядов, шедших вразрез с общими интересами страны, которую она пыталась оградить от возможных в будущем революций. Но в целом среди судейского сословия было слишком много буржуазных элементов, оно было слишком доступно влиянию мелких страстей, порождаемых либерализмом, и должно было рано или поздно стать конституционным, а в час решительной схватки — перейти на сторону буржуазии... В огромном организме судебной власти, как и власти административной, таилось немало лицемерия или, говоря точнее, духа подражания, который вечно заставляет Францию копировать двор и, с невинным видом, обманывать его.
Два указанных нами типа юристов имелись и в том суде, который должен был решить судьбу молодого д'Эгриньона. Председатель суда дю Ронсере и старик судья по фамилии Блонде принадлежали к категории смирившихся, готовых довольствоваться своей судьбой и навсегда обосновавшихся в провинции. Среди представителей честолюбивой молодежи были следователь Камюзо и Мишю, назначенный благодаря покровительству знатного семейства Сен-Синь заместителем судьи; он рассчитывал при первой возможности перейти в уголовный суд в Париже.
Председатель дю Ронсере был спокоен за свое место, полагаясь на закон о несменяемости судей; считая, что аристократия не относится к нему с тем почтением, которого он достоин, дю Ронсере принял сторону буржуазии, прикрыв свое разочарование маской независимости; он, очевидно, не понимал, что при своих взглядах будет вынужден остаться на всю жизнь лишь председателем окружного суда. Вступив на этот путь, он, следуя логике вещей, волей-неволей связал все свои надежды на карьеру с победой дю Круазье и «левых». Его не любили ни в префектуре, ни в суде. Дю Ронсере должен был ладить с властями и поэтому казался либералам подозрительным. Таким образом, его не считала своим ни одна из партий. Вынужденный снять свою кандидатуру в депутаты в пользу дю Круазье, дю Ронсере потерял всякое влияние и играл только второстепенную роль. Фальшивость его положения повлияла на его характер, он стал озлобленным и желчным. Устав от необходимости держаться двойственной политики, он втайне решил встать во главе либеральной партии и таким образом взять верх над дю Круазье. Поведение председателя суда в деле графа д'Эгриньона было первым шагом на этом пути. Он являлся уже вполне типическим представителем буржуазии, которая оскверняет своими ничтожными страстями великие интересы страны; неустойчивая в политике, она сегодня стоит за существующую власть, а завтра — против; она все компрометирует и ничего не защищает, приходит в отчаяние от совершенного ею зла и порождает новое, не желает признать собственного ничтожества и докучает власти, прикидываясь ее скромной — а на самом деле наглой — служанкой; требует от народа повиновения, в то время как сама не желает повиноваться королевской власти; охваченная завистью к сильным мира сего, она непременно желает свести их до своего уровня, как будто величие совместимо с ничтожеством, а власть может существовать без силы.
Председатель был тощий и долговязый шатен; у него был покатый лоб, реденькие волосы, разноцветные глаза, лицо в прыщах и поджатые губы. Говорил он с хриплым присвистом, так как страдал астмой. Он был женат. Его жена, грузная и весьма нескладная особа, следовала самым нелепым модам и отчаянно рядилась. Она держалась королевой, носила только яркие цвета и, выезжая на бал, неизменно водружала на голову тюрбан — головной убор, столь излюбленный англичанками и имеющий огромный успех у провинциальных дам. Супруги получали четыре-пять тысяч франков годового дохода; вместе с жалованьем председателя их ресурсы составляли тысяч двенадцать в год. Несмотря на скупость, они из тщеславия раз в неделю принимали гостей. Жили они в старинном доме, принадлежавшем г-же дю Ронсере, и, храня верность добрым старым обычаям города, где дю Круазье старался насадить современную роскошь, не переставили у себя с самой свадьбы ни одной вещи. Дом их, выходивший одним фасадом во двор, а другим — в небольшой сад, повернулся к улице боковой стеною, с одним окном в каждом этаже, и был увенчан щипцом крутой крыши в виде треугольника. Все владение окружала высокая ограда, вдоль которой со стороны сада тянулась каштановая аллея, а со стороны двора — службы. Сад был отделен от улицы ветхой, заржавевшей решеткой; во двор вели ворота, стиснутые двумя стенами и прикрытые широким навесом. Такой же навес украшал и парадное крыльцо. Под навесами было душно, темно, затхло. В стене, отделявшей дом от соседнего, было пробито несколько окошек, забранных решетками, как в тюрьме. Цветам, казалось, не хотелось расти на квадратных клумбочках этого садика, который был виден каждому через редкую решетку. В нижнем этаже дома, по одну сторону большой прихожей, была расположена гостиная, с окном на улицу и застекленной дверью в сад. По другую сторону находилась такой же величины столовая. Эти три комнаты вполне отвечали унылому виду дома. На потолках перекрещивались разрисованные балки, а квадраты между ними были украшены скупым, утомительным для глаз орнаментом в виде ромбов с резными деревянными розетками. Стенная роспись крикливых тонов поблекла и потемнела. В гостиной висели красные шелковые, выгоревшие от солнца портьеры и стояла выкрашенная в белый цвет мебель, обитая выцветшим штофом. Камин украшали часы времен Людовика XV и безвкусные жирандоли с восковыми свечами, которые зажигались лишь в высокоторжественные дни, когда супруга председателя совлекала зеленый чехол со старинной люстры, украшенной подвесками из горного хрусталя. Три карточных стола с изъеденным молью зеленым сукном и столик для триктрака были к услугам непритязательных гостей, которых хозяйка угощала сидром, пышками, каштанами, сахарной водой и оршадом собственного приготовления. С некоторых пор она стала раз в две недели подавать гостям чай с довольно скверным пирожным. Каждые три месяца дю Ронсере давали званый обед с тремя переменами, о котором предварительно трубили по всему городу; он подавался на отвратительном сервизе, но приготовлялся с тем мастерством, каким отличаются только провинциальные кухарки. Трапеза, достойная Гаргантюа, продолжалась шесть часов кряду. И тут председатель старался посрамить изысканные обеды дю Круазье той хвастливой расточительностью, на которую иногда способны скряги. Так весь образ жизни дю Ронсере во всех мелочах соответствовал его характеру и ложному положению. Дома ему не нравилось, хотя он сам не понимал — почему, но он не решался даже на малейший расход, чтобы изменить установленный порядок, ибо с особым удовольствием откладывал каждый год семь-восемь тысяч франков; дю Ронсере мечтал как можно лучше обеспечить своего сына Фабиена, не желавшего стать ни судьей, ни адвокатом, ни чиновником и приводившего отца в отчаяние своим бездельем.