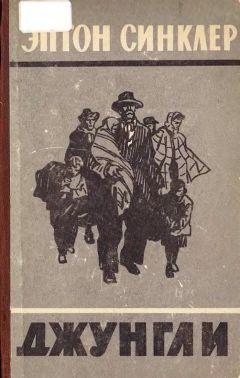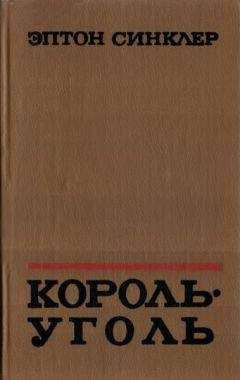Эптон Синклер - Джунгли
Юргис вернулся домой даже успокоенный: во всяком случае, теперь он знал самое худшее, и его больше не ожидали никакие сюрпризы. Он понимал, что их ограбили, но раз уж они попались, назад дороги не было. Они могут идти только вперед, бороться и победить, потому что о поражении было страшно подумать.
Когда пришла весна, они избавились от мучительного холода, и это уже много значило; правда, они рассчитывали еще сэкономить деньги, которые раньше тратили на уголь, но как раз к этому времени Мария перестала вносить свою долю. Однако у весны тоже была своя оборотная сторона, как, по-видимому, у каждого времени года. Начались холодные дожди, превратившие улицы в болота и трясины; грязь была так глубока, что фургоны увязали по ступицу, и шесть лошадей не могли их вытащить. Разумеется, добраться до боен, не промочив ног, было невозможно. Плохо одетым и обутым мужчинам приходилось тяжело, но еще больше страдали женщины и дети.
Потом пришло лето с изнурительным зноем, и грязные дэрхемовские убойные превратились в сущий ад: как-то за один день от солнечного удара умерло трое рабочих. С утра до вечера лились реки горячей крови, палило солнце, воздух словно застыл, и можно было задохнуться от зловония; эта жара оживила все старые, скопившиеся за целое поколение запахи, — в убойной никогда не мыли ни стен, ни балок, ни столбов, и их покрывала запекшаяся многолетняя грязь. Людей, работавших там, можно было за пятьдесят футов узнать по отвратительному запаху: с ним немыслимо было бороться, самые чистоплотные в конце концов сдавались и обрастали грязью. Негде было даже вымыть руки, и свой обед рабочие ели пополам с кровью. Во время работы они не могли отереть пот с лица, они были беспомощнее грудных младенцев; это кажется пустяком, но когда струйки пота текли по шее или одолевали мухи, рабочие мучились так, словно их заживо поджаривали. Что тут было причиной — сами бойни или свалка, сказать трудно, но с наступлением жары мухи обрушивались на Мясной городок, как сущий бич божий. Описать это немыслимо — мухи буквально облепляли дома. От них не было спасения: вы могли затянуть сетками все окна и двери, но мухи жужжали снаружи, как пчелиный рой, а стоило приоткрыть дверь, и их словно бурей заносило в комнату.
Со словом «лето» обычно связывается представление о деревне, о зеленых полях, о горах, о сверкающих реках. У обитателей Мясного городка таких представлений не было. Огромная машина боен безжалостно продолжала работать, не думая о зеленых полях. Мужчины, женщины, дети — ее бесчисленные винтики — никогда не видели зелени, не видели ни единого цветка. В нескольких милях к востоку простирались синие поды озера Мичиган, но толку от него рабочим было не больше, чем от Тихого океана. Они освобождались только по воскресеньям, но чувствовали себя слишком усталыми, чтобы гулять. Они были прикованы к огромной машине боен, прикованы до конца жизни. Директоров, управляющих и других служащих в Мясном городке набирали из представителей другого класса, выходцев из рабочих среди них не было, и они — даже ничтожнейшие из них — презирали рабочих. Какой-нибудь жалкий конторщик, который двадцать лет проработал у Дэрхема, получая шесть долларов в педелю, и мог проработать еще двадцать лет без надежды на повышение, все-таки считал себя джентльменом и полагал, что расстояние между ним и любым, даже самым квалифицированным, рабочим боен не меньше, чем между полюсами земного шара. Он и одевался по-другому, и жил в другой части города, и на работу приходил в другое время, всеми способами показывая, что он не ровня простому рабочему. Может быть, причина заключалась в том, что работа на бойнях сама по себе была омерзительна, но так или иначе люди физического труда составляли особый класс, и это им давали почувствовать на каждом шагу.
В конце весны консервная фабрика возобновила работу, снова зазвенели песни Марии, и влюбленная музыка Тамошуса зазвучала не так печально. Но ненадолго! Не прошло и двух месяцев, как Марию снова постигло страшное бедствие. Ровно через год и три дня после того, как она поступила на работу, ее рассчитали.
Это была длинная история. Мария утверждала, что всему причиной ее работа в союзе. У мясных королей, разумеется, были шпионы во всех профессиональных союзах, а вдобавок они подкупали некоторых профсоюзных руководителей — тех, кого считали нужным. Поэтому еженедельно они узнавали обо всем, что там делалось, — порою даже раньше, чем сами члены союза. Всякий, кого они считали опасным, оказывался в немилости у мастера, а Мария умела входить в доверие к иммигрантам и агитировала среди них. Как бы то ни было, но однажды, за несколько недель до закрытия фабрики, при выдаче заработка Марию обсчитали на триста банок. Девушки работали за длинным столом, а за их спиной расхаживала учетчица с карандашом и записной книжкой в руках и вела счет окрашенным банкам. Разумеется, она порою ошибалась, как может ошибаться всякий человек. В таких случаях протестовать было бесполезно — если в субботу вы получали денег меньше, чем заработали, вам приходилось с этим мириться. Но Мария не желала этого понимать и поднимала шум. Шум этот никого не пугал, и пока Мария умела говорить только по-литовски и по-польски, на нее не обращали внимания; все только смеялись над ней и доводили ее до слез. Но теперь Мария научилась ругаться по-английски, и учетчица, которая сделала ошибку, невзлюбила ее. Может быть, Мария была права, утверждая, что после этого та стала ошибаться нарочно. Так или иначе, она ошибалась, и когда это случилось в третий раз, Мария объявила ей войну и сперва пожаловалась надзирательнице, а потом, не добившись толка, отправилась к самому управляющему. Это была неслыханная дерзость, но управляющий сказал, что разберется, и Мария приняла его слова за обещание вернуть ей деньги; прождав три дня, она снова явилась к нему. На этот раз он нахмурился и заявил, что у него нет времени заниматься такими пустяками, а когда Мария, не слушаясь советов и предостережений, снова попыталась обратиться к нему, он в ярости велел ей отправляться работать. Что произошло дальше, Мария в точности не знала, но после обеденного перерыва надзирательница сообщила ей, что в ее услугах больше не нуждаются. Если бы эта женщина стукнула ее по голове, и тогда бедная Мария не была бы так ошеломлена. Сперва она не поверила своим ушам, а потом разбушевалась и поклялась, что все равно будет приходить на работу: ее место принадлежит ей! В конце концов она уселась на пол посреди цеха и принялась плакать и причитать.
Урок был жестокий, но зачем Мария упрямилась и не желала слушаться опытных людей? В следующий раз будет знать свое место, сказала надзирательница. И вот Мария ушла, а перед семьей снова встал вопрос о том, как жить.
На этот раз им было особенно тяжело, потому что Он на вскоре должна была родить и Юргис изо всех сил старался скопить хоть немного денег к ее родам. Он наслушался страшных историй о повитухах, которыми Мясной городок кишел, словно блохами, и твердо решил, что к Онне надо пригласить врача-акушера. Когда Юргис чего-нибудь хотел, он становился очень упрямым; так было и теперь — к великому негодованию женщин, которые считали, что звать мужчину к роженице неприлично и что вообще это их женское дело. Самый дешевый врач возьмет не меньше пятнадцати долларов, а потом может прислать и дополнительный счет; но Юргис оставался непреклонным: за деньгами дело не станет, говорил он, даже если ему все это время придется голодать.
У Марии оставалось всего двадцать пять долларов. День за днем бродила она по бойням, выпрашивая работу, но на этот раз не надеясь ее получить. Когда у Марии было легко на душе, она могла выполнять работу здорового мужчины, но неудача сразу сломила ее, и когда по вечерам она возвращалась домой, на нее жалко было смотреть. На этот раз она выучила свой урок, бедняжка, она выучила его наизусть. Вся семья выучила его вместе с нею: если уж вы получили работу в Мясном городке, то, чего бы это вам ни стоило, вы должны за нее цепляться.
Мария искала работу целых четыре недели. Конечно, она перестала платить взносы в союз. Она потеряла к нему всякий интерес и проклинала себя за то, что, как дура, дала себя туда заманить. Когда она уже окончательно потеряла надежду, кто-то сказал ей, что есть свободное место на другой консервной фабрике. Она пошла туда, и ее взяли обрезчицей. Ей повезло — мастер обратил внимание на ее могучую мускулатуру. Он рассчитал мужчину и нанял вместо него Марию, которой платил вдвое меньше, чем ее предшественнику.
В начале своей жизни в Мясном городке Мария с презрением отвергла бы такую работу. Теперь ей приходилось срезать мясо с тех издохших животных, о которых недавно рассказывали Юргису. Ее запирали в помещение, куда редко заглядывал дневной свет. Под ней были холодильники, где замораживали мясо, а над ней кухни, и она стояла на ледяном полу, а сверху струился такой горячим воздух, что Мария с трудом дышала. Грезить с костей куски говядины по сто фунтов весом, стоя с раннего утра и до поздней ночи в тяжелых сапогах на влажном, покрытом лужами полу; быть готовой к тому, что во время застоя ее могут уволить на неопределенное время, а во время горячки задержать сверхурочно и заставить работать, пока каждый нерв не начнет дрожать, а нож не выскользнет из ослабевших рук и не нанесет ей отравленную рану, — такова была жизнь, открывшаяся перед Марией. Но Мария была вынослива, как лошадь, и поэтому она только смеялась и работала. Она сможет снова вносить свою долю, и семья сведет концы с концами! А Тамошус… что ж, они так долго ждали, подождут еще немножко. Они не смогут прожить на один его заработок, а семье не обойтись без ее денег. Он будет приходить к ней в гости, сидеть на кухне, держать ее за руку — пусть ему будет пока достаточно и этого. Но изо дня в день пение скрипки Тамошуса становилось все более страстным и душераздирающим, а Мария сидела, сжимая руки, щеки ее были влажны, все тело трепетало, и в жалобных напевах ей слышались голоса нерожденных поколений, моливших ее о жизни.