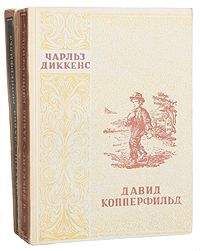Чарльз Диккенс - Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим (XXX-LXIV)
Глава XXXVII
Немножко холодной воды
Моя новая жизнь продолжалась уже больше недели, и я сильнее, чем прежде, был увлечен теми грозными решениями, каких, по-моему мнению, требовали обстоятельства. Я продолжал ходить чрезвычайно быстро, и по-прежнему у меня было смутное представление, что таким образом я пробиваю себе дорогу. За какое бы дело я ни брался, я положил за правило тратить на него как можно больше сил. Я стал, в подлинном смысле слова, жертвой самого себя. Подумывал я даже о том, не перейти ли мне на растительную пищу, и при этом мне казалось, – правда, полной уверенности у меня не было, – что если я превращусь в травоядное животное, то этим воскурю фимиам перед алтарем Доры.
До сей поры малютка Дора пребывала в полном неведении относительно моей отчаянной решимости, на которую лишь туманно намекали мои письма. Но вот снова настала суббота, и в этот субботний вечер она должна была навестить мисс Миллс, а я – явиться туда к чаю, когда мистер Миллс отправится в свой клуб играть в вист (об этом мне протелеграфируют, вывесив в среднем окне гостиной клетку с птицей).
К тому времени мы окончательно устроились на Бэкингем-стрит, где мистер Дик блаженствовал, переписывая свои бумаги. Бабушка моя одержала знаменательную победу над миссис Крапп – она отказалась от ее услуг, предварительно выбросив в окошко первый же кувшин с водой, который та поставила на ступеньках, и собственной персоной защищая на лестнице приведенную ею поденщицу. Эти энергические меры вселили такой ужас в сердце миссис Крапп, что она удалилась к себе на кухню, придя к заключению, что бабушка рехнулась. Бабушка, оставаясь совершенно равнодушной к мнению миссис Крапп, а равно и всех людей на свете, скорее поощряла, чем опровергала такую мысль, и вот миссис Крапп, еще недавно столь храбрая, сделалась через несколько дней такой трусливой, что, предпочитая не встречаться с бабушкой на лестнице, старалась либо скрыть свою объемистую фигуру за дверью – хотя на виду все-таки оставался широкий подол ее фланелевой юбки, – либо забивалась в темные углы. Бабушке это доставляло несказанное удовлетворение, и, мне кажется, она испытывала подлинную радость, прогуливаясь в нелепо торчавшем на макушке чепце по лестнице в те часы, когда миссис Крапп могла попасться ей на пути.
Бабушка, необычайно домовитая и изобретательная, ввела в наше хозяйство столько маленьких преобразований, что, мне казалось, я стал не беднее, а богаче, чем раньше. Между прочим, она превратила чулан в мою гардеробную и купила мне кровать, которую убрала и украсила так, что днем она походила на книжный шкаф, насколько может походить на него кровать. Я был предметом неусыпных ее забот, и даже бедная моя мать не могла бы любить меня горячей и положить столько сил, чтобы сделать меня счастливым.
Пегготи сочла для себя высокой честью разрешение участвовать в этих трудах, и хотя все еще не преодолела чувства благоговейного ужаса перед моей бабушкой, ей было выказано столько знаков доверия и поощрения, что теперь они стали наилучшими друзьями. Но вот настал день (это была именно суббота, и мне предстояло пить чай у мисс Миллс), когда Пегготи должна была вернуться домой, чтобы, выполняя свой долг, взять на себя заботу о Хэме.
– Ну что ж, прощай, Баркис, – сказала бабушка, – береги свое здоровье. Право же, я никогда не думала, что мне будет так грустно расставаться с тобой.
Я отвел Пегготи в контору пассажирских карет и проводил ее в путь. Прощаясь со мной, она расплакалась и поручила моим дружеским заботам своего брата, как уже сделал раньше Хэм. Мы ничего о нем не слыхали с тех пор, как он ушел тогда, на закате.
– А теперь, родной мой Дэви, – сказала Пегготи, – если вам, покуда вы обучаетесь, понадобятся деньги или если они вам понадобятся по окончании учения, дорогой мой, чтобы стать на ноги (а они вам все равно понадобятся, миленький мой), то у кого же больше прав ссудить вам деньги, чем у меня, глупой старой служанки моей милочки!
Я был не так уже одержим страстью к независимости, чтобы не сказать в ответ, что, если когда-нибудь мне придется взять взаймы деньги, я их возьму у нее. Мне кажется, ничто не доставило бы Пегготи большего утешения, чем такой ответ, – разве что я попросил бы тут же на месте большую сумму.
– И вот что еще, дорогой мой, – зашептала Пегготи, – скажите вашему хорошенькому ангелочку, что мне, ох, как хотелось бы увидеть ее хоть на минутку! И скажите ей, что, когда она будет выходить замуж за моего мальчика, я приеду и устрою вам такое красивое гнездышко, если вы мне разрешите!
Я заявил, что никто другой не прикоснется к «нашему гнездышку», чем привел в восторг Пегготи, уехавшую в наилучшем расположении духа.
В течение дня я по мере сил изнурял себя в Докторс-Коммонс, прибегая для этого ко всевозможным способам, а вечером в назначенный час появился на улице, где проживал мистер Миллс. У мистера Миллса была ужасная привычка засыпать после обеда, он еще не ушел из дому и в среднем окне не было никакой клетки.
Он так долго заставил меня ждать, что я страстно желал, чтобы клуб оштрафовал его за опоздание. Наконец он вышел, и тогда я увидел, как моя Дора сама вывесила в окне клетку и выглянула на балкон убедиться, тут ли я; увидав меня, она убежала в комнату, а Джип остался и бешено залаял на огромную собаку мясника, которая могла проглотить его, как пилюлю.
Дора встретила меня в дверях гостиной, из тех же дверей выскочил и Джип, спотыкаясь, рыча и, видно, воображая, будто я разбойник, и мы все втроем, радостные и любящие, вошли в комнату. Очень скоро я внес уныние в наши счастливые сердца – я этого не хотел делать, но слишком уж я был поглощен своей идеей – и без всяких предисловий спросил Дору, может ли она любить нищего.
Моя милая, маленькая Дора! Как она испугалась! Это слово вызвало у нее только представление о желтом лице пьяницы, о костылях или деревянной ноге, а не то о собаке с подносиком в зубах или еще о чем-нибудь в таком же роде. И она с очаровательным недоумением широко раскрыла глаза.
– Как вы можете задавать мне такие глупые вопросы? – надув губки, сказала Дора. – Любить нищего!
– Дора, любимая моя! Я – нищий! – воскликнул я.
– Какой глупый! – Тут она шлепнула меня по руке. – Сидит и рассказывает какие-то сказки! Я велю Джипу укусить вас!
Ее ребяческие манеры казались мне самыми восхитительными в мире, но необходимо было ясно высказать все, и я торжественно произнес:
– Дора, жизнь моя, я разорился!
– А я говорю, что велю Джипу укусить вас, если вы будете вести себя так глупо, – сказала Дора, тряхнув локонами.
Но у меня был такой серьезный вид, что Дора перестала встряхивать локонами, положила мне на плечо дрожащую руку и сначала посмотрела на меня с испугом и беспокойством, а потом расплакалась. Это было ужасно. Я упал на колени перед диваном, ласкал ее, умолял не надрывать мне сердца, но довольно долго бедная маленькая Дора могла только восклицать: «Ох, боже мой, боже мой!», и: «Ох, мне так страшно», и: «Где Джулия Миллс?», и: «Ох, отведите меня к Джулии Миллс и, пожалуйста, уходите!» – так что я потерял голову.
Наконец, после мучительных уговоров и просьб, я заставил Дору повернуть ко мне испуганное личико и постепенно успокоил ее, так что теперь это личико выражало только одну любовь, а прелестная нежная щечка прижалась к моей щеке. Тогда, не разжимая объятий, я сказал ей о том, как горячо-горячо люблю ее; и о том, что считаю правильным освободить ее от данного слова, ибо теперь я беден; сказал, что никогда мне этого не перенести и не оправиться, если я потеряю ее; и о том, что бедность меня не страшит, если не страшна она Доре, которая для меня – источник силы и вдохновения; я сказал, что уже принялся за работу с такой энергией, какую знают одни влюбленные, и учусь быть практичным и думать о будущем; сказал, что корка хлеба, заработанная своими руками, слаще любых яств, полученных по наследству. И много еще говорил я на эту тему со страстным красноречием, удивившим даже меня самого, хотя я думал о своем разговоре с Дорой день и ночь с тех пор, как выслушал поразительное бабушкино сообщение.
– Ваше сердце все еще принадлежит мне, милая Дора? – спросил я в упоении, ибо уже знал ее ответ, судя по тому, как доверчиво она прильнула ко мне.
– О да! – воскликнула Дора. – Да, оно – ваше. О, не будьте таким страшным. Я кажусь страшным! Доре!
– Не говорите о том, что вы обеднели и должны трудиться изо всех сил! – сказала Дора, прижимаясь ко мне еще теснее. – Ох, не надо, не надо!
– Ненаглядная моя, корка хлеба, заработанная своими руками…
– Да, да! Но я больше ничего не хочу слушать о корках, – перебила Дора. – И Джип должен каждый день получать в двенадцать часов баранью котлетку, иначе он умрет!
Я был очарован детской прелестью ее манер. И ласково ей объяснил, что Джип по-прежнему будет получать регулярно свою баранью котлетку. И нарисовал картину нашего скромного семейного очага, где мы не зависим ни от кого благодаря моим трудам, – описал маленький домик, виденный мною в Хайгете, и комнату, отведенную для бабушки в верхнем этаже.